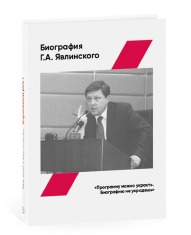Рухнули инвестиционные банки, соревновавшиеся за этажность на Уолл-стрите. С биржевых рынков улетучилось более триллиона долларов. Налогоплательщиков одарили долгом в семьсот миллиардов. Пожалуй, трудно представить себе катастрофу более чудовищных масштабов, чем та, что постигла Уолл-стрит. Многие американцы задаются вопросом — почему они должны отдать такую умопомрачительную сумму за спасение экономики от краха — но мало кто задумывается о том, как справиться с иной бедой, пусть менее заметной на первый взгляд, но потенциально еще более дорогостоящей: с тем ущербом, который понес бренд под названием ‘Америка’.
Одной из главных статей нашего экспорта всегда были идеи; еще с начала 1980-х годов, когда президентом был избран Рональд Рейган (Ronald Reagan), в мировой общественной мысли началось господство двух идей, берущих начало в США. Во-первых, это было представление о том, что ключом к экономическому росту при капитализме являются низкие налоги и слабое государственное регулирование. Идеи рейганизма опрокинули существовавшее в то время представление о необходимости непрерывно повышать участие государства в экономических процессах, и идеология дерегулирования заняла первое место на повестке дня не только в США, но и во всем мире.
Второй такой мыслью стало представление о роли Америки как мирового рассадника либерально-демократических идей, каковые идеи рассматривались в качестве наилучшего пути к процветанию и открытости для всего мира. Источником силы и влияния Америки были не только танки и доллары, но и тот факт, что для большинства людей американская модель самоуправления представлялась привлекательной альтернативой тому, как устроено их собственное общество, и они были готовы менять свою жизнь и обустраивать ее по американскому образцу, — именно этот феномен политолог Джозеф Най (Joseph Nye) назвал soft power (‘мягким влиянием’).
Трудно даже представить, насколько сильно последние события дискредитировали основные элементы бренда ‘Америка’. В период между 2002 и 2007 годами в мировой экономике наблюдался беспрецедентный рост, и легко было не слушать речи социалистов из Европы и популистов из Латинской Америки, обзывавших американскую экономическую модель ‘капитализмом для ковбоев’. А теперь локомотив роста — экономика США — сошел с рельсов и грозит увлечь за собой весь мир. Хуже того, виновником произошедшего является не кто иной, как сама ‘американская модель’: повторяя, как заклинание, слова о необходимости минимизировать участие государства в экономических процессах, Вашингтон перестал следить за финансовым сектором, который в результате подобного попустительства вышел из-под контроля, что возымело для остальной части нашего общества ужасающие последствия.
Идея демократии была дискредитирована и того ранее. Как только выяснилось, что у Саддама не было никакого оружия массового поражения, администрация Буша попыталась найти оправдание иракской войне в виде неких ‘соображений свободы’; таким образом, главным оружием в войне против терроризма внезапно стала борьба за демократию. Однако разговоры о демократии кажутся многим лишь прикрытием для распространения американской гегемонии.
Теперь перед всеми нами стоит новая дилемма, и дилемма эта далеко не так проста, как дискуссия о ‘выкупе’ Уолл-стрит или президентские выборы. Бренд ‘Америка’ переживает тяжелые времена, тогда как бренды, ассоциируемые, скажем, с Китаем или Россией, выглядят все более и более заманчиво. Восстановить наше доброе имя и вернуть нашему бренду былую привлекательность — задача не менее сложная, чем стабилизация финансового сектора. Барак Обама (Barack Obama) и Джон Маккейн (John McCain) взялись бы за решение этой задачи разными способами, но обоим им придется очень трудно, решение растянется на долгие годы. Между тем, мы еще даже не начали понимать, что именно пошло не так, какие именно элементы ‘американской модели’ обладают достаточной надежностью, какие дали сбой из-за скверного претворения в жизни достойных принципов, а от каких вовсе придется избавляться.
Неоднократно отмечалось, что крах Уолл-стрита знаменует конец эпохи Рейгана. Это, безусловно, справедливо — даже если на ноябрьских выборах победу одержит Маккейн. Масштабные идеи всегда возникают в контексте конкретной исторической эпохи и, как правило, не переживают серьезных перемен — именно поэтому политические системы существуют ‘в режиме маятника’, колеблясь слева-направо, справа-налево, хотя полный цикл колебаний может растянуться на несколько поколений.
Для своего времени американский рейганизм, как и соответствовавший ему британский тэтчеризм, был правильной идеологией. С момента провозглашения Рузвельтом в 1930-х годах ‘Нового курса’ роль государства в экономике всех стран неуклонно возрастала. К 1970-м годам крупные государства, построенные на принципе ‘общества благосостояния’, практически утратили функциональность, задохнувшись в бюрократизме. Телефонов в то время было мало и стоили они дорого, авиаперелеты все еще были уделом богатых, а большинство людей хранили деньги в банках, приносивших низкие, регулируемые ‘сверху’ проценты. Различные социальные программы, предоставлявшие, например, помощь семьям с нетрудоспособными детьми, стимулировали бедных людей не работать и разводиться, что привело к массовому распаду семей. А революция Рейгана-Тэтчер облегчила процедуру найма (и увольнения) работников — конечно, с последствиями в виде сокращения или полного исчезновения многих ставших традиционными отраслей экономики, что не могло не вызвать бурю протестов. С другой стороны, был заложен фундамент для роста, длившегося почти три десятилетия, и для появления совершенно новых отраслей в виде био- и информационных технологий.
С международной точки зрения рейгановская революция свелась к так называемому ‘вашингтонскому консенсусу’, заключавшемуся в том, что Вашингтон вместе с подверженными его влиянию организациями (Международный валютный фонд, Всемирный банк) активно подталкивал развивающиеся страны к экономической открытости. Популисты вроде Уго Чавеса (Hugo Chavez) из Венесуэлы с пеной у рта ругают ‘вашингтонский консенсус’, но факт остается фактом — латиноамериканский долговой кризис начала 1980-х, когда Аргентину, Бразилию и прочие страны региона поразила гиперинфляция, был преодолен благодаря нему. Аналогичная политика, ориентированная на либерализацию рынка, помогла Индии и Китаю превратиться в центры экономической мощи, которыми они остаются по сей день.
Если кто-то еще не убедился в справедливости вышесказанного, предлагаю рассмотреть крайние примеры государственного регулирования, то есть экономику СССР и других коммунистических стран с полным центральным планированием. К 1970-м годам они уже отставали от капиталистических стран практически по всем параметрам, а полный крах, последовавший за падением берлинской стены, продемонстрировал полную историческую несостоятельность подобных систем, поддерживавшихся ‘на уколах’.
Как и любое реформистское движение, рейгановская революция вышла из-под контроля в силу того, что сторонники ее увидели в ней не практический путь решения определенных проблем (то есть перегибов, связанных с моделью ‘общества благосостояния’), а непререкаемую идеологию. Были возведены в культ два положения: о том, что любое снижение налогов способно окупить само себя, и о том, что финансовые рынки не нуждаются ни в каком регулировании.
До 1980-х консерваторы, как им и полагается, отдавали предпочтение консервативной финансовой политике — другими словами, старались делать так, чтобы государственные расходы не превышали налоговых поступлений. Но на заре эры ‘рейганомики’ появилось представление о том, что любая мера по снижению налогов в конечном итоге приведет к росту доходной статьи (так называемая кривая Лаффера (Laffer curve)). На самом деле правы были консерваторы: понижая налоговую ставку и не урезая расходы, можно привести бюджет к потенциально опасному дефицитному балансу. Так, в 1980-е годы Рейган понижал ставки и пришел к крупному дефициту; в 1990-е Клинтон повысил ставку, и бюджет стал профицитным, а в начале XXI века, при Буше, ставка была опять снижена, что привело к возникновению еще более тяжелого дефицита. Тот факт, что при Клинтоне экономика росла столь же быстро, сколь и при Рейгане, отчего-то не смог поколебать веры консерваторов в то, что низкие налоговые ставки являются универсальным рецептом роста.
Еще важнее то, что благодаря глобализационным процессам ошибка консервативных воззрений была в известной степени скрыта. Казалось, что американский доллар будет всегда пользоваться спросом у иностранцев, что позволяло экономике одновременно функционировать в условиях дефицита и продолжать расти, — ни одна развивающаяся страна не смогла бы себе этого позволить. Утверждается, что вице-президент США Дик Чейни (Dick Cheney) даже сказал Бушу: ‘Дефициты — это несущественно’.
Вторая часть рейгановского ‘символа веры’ — финансовое дерегулирование — сформировалась благодаря нечестивому союзу между искренне верующими и Уолл-стритом. К 1990-м годам этот принцип безусловно приняли на веру даже демократы. Утверждалось, что долгосрочные нормативные акты наподобие закона Гласса-Стиголла (согласно которому банкам запрещается быть одновременно коммерческими и инвестиционными) преграждают дорогу нововведениям и подтачивают конкурентоспособность финансовых институтов США. Аргумент справедливый — вот только полное дерегулирование привело к лавинообразному появлению новых форм финансовой деятельности, включая и облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (в нынешнем кризисе виноваты именно они). Часть республиканцев до сих пор не усвоила урок: они пытаются предложить альтернативу ‘выкупу’ в виде еще большего понижения налоговой ставки для хеджинговых фондов.
Проблема заключается в том, что Уолл-стрит резко отличается от той же Кремниевой долины, где почти полное отсутствие ‘направляющей руки’ оказывает по-настоящему благотворное действие. Работа финансовых институтов построена на доверии, а доверие возможно лишь в том случае, когда государственные институты обеспечивают их прозрачность и осторожное отношение к рискам, касающимся чужих денег. Кроме того, финансовый сектор отличается от всех прочих тем, что его падение затрагивает не только акционеров и работников соответствующих институтов, но и большое количество сторонних, ни в чем не повинных граждан (на сухом жаргоне экономистов это называется ‘негативные экстерналии’).
Признаки опасного дрейфа ‘рейгановской революции’ были налицо уже в начале десятилетия. Одним из предзнаменований стал финансовый кризис, поразивший Азию в 1997-98 годах. Таиланд, Южная Корея и ряд других стран по совету США (и под их давлением) либерализировали рынки капитала, в результате чего возникла ситуация, именуемая ‘пузырем’ — на экономику обрушился поток инвестиций, который при первых знаках неприятностей иссяк так же резко, как и появился. Знакомо, правда? А Китай и Малайзия, например, не последовали советам США, не стали открывать свои финансовые рынки или же сохранили государственный контроль над ними, благодаря чему перенесли кризис значительно легче.
Вторым предупредительным знаком должен был послужить накапливающийся структурный дефицит бюджета США. После событий 1997 года Китай и ряд других стран начали скупать американский доллар, сознательно намереваясь частично обесценить собственные валюты, сохранить промышленность и защититься от потрясений финансового рынка. Для Америки, переживавшей тогда последствия террористических актов 11 сентября, сложившаяся ситуация была абсолютно приемлемой: мы могли продолжать снижать налоги, проплачивать вакханалию потребления и две дорогостоящие войны, в то же самое время ежегодно подводя бюджет с дефицитом. Очевидно, что возникшие в результате этого гигантские (и постоянно растущие) задолженности, к 2007 году достигшие величины 700 миллиардов долларов, невозможно было обслужить, и рано или поздно за границей должны были понять, что хранить деньги в Америке лучше не надо. Падение доллара говорит о том, что это уже произошло. Очевидно, что Чейни был неправ: дефициты — это существенно.
Даже внутри страны негативные стороны политики дерегулирования чувствовались задолго до краха на Уолл-стрит. Так, в Калифорнии в 2000-2001 годах неудержимо взлетели цены на электричество; причиной тому было отсутствие государственного регулирования на рынке энергоносителей, чем без зазрения совести воспользовались компании, подобные Enron. Сама Enron вместе с рядом других фирм погибла в 2004 году из-за несоблюдения стандартов ведения отчетности. На протяжении целого десятилетия в стране росло социальное неравенство, так как преимущества экономического роста отразились главным образом на обеспеченных и образованных слоях населения, а доходы представителей рабочего класса оставались на прежнем уровне. Наконец, провальная оккупация Ирака и ликвидация последствий урагана ‘Катрина’ обнажили всестороннюю слабость общественного сектора — результат хронического недофинансирования и низкой престижности общественных должностей, установившейся еще при Рейгане.
Все это говорит о том, что эпохе Рейгана давно пора было закончиться. Не случилось этого отчасти из-за того, что Демократической партии не удалось представить на выборах ни убедительных аргументов, ни привлекательных кандидатов, а отчасти — из-за резкого отличия Америки от Европы, где менее образованные представители рабочего класса неизменно голосуют за социалистов, коммунистов и прочие партии левой ориентации. В США эти люди голосуют то за левых, то за правых: при ‘новом курсе’ они вошли в состав грандиозной демократической коалиции Рузвельта, продержавшейся до времени правления Линдона Джонсона (Lyndon Johnson), провозгласившего политическую программу ‘новое общество’ в 1960-х. При Никсоне и Рейгане пролетариат голосовал за республиканцев, в 1990-х — за Клинтона, а при Буше-младшем — опять за республиканцев. За последних они голосуют тогда, когда вопросы, связанные с религией, патриотизмом, семейными ценностями и допустимостью ношения оружия перевешивают экономические проблемы.
На ноябрьских выборах мнение именно этой части электората будет иметь решающее значение — не в последнюю очередь из-за их многочисленности в ‘штатах перевеса’ (Огайо, Пенсильвания и др.). Склонятся ли они в сторону непонятного гарвардского выпускника Обамы, который явно в большей степени выражает их экономические интересы? Когда в 1929 году к власти пришла Демократическая партия, для этого потребовался сильнейший экономический кризис. Опросы показывают, что в октябре 2008 года в стране намечается нечто подобное.
Есть еще один критически важный элемент американского бренда. Это демократия и готовность США поддерживать демократические режимы по всему миру. Идеалистическая нотка неизменно звучит по всех внешнеполитических мероприятиях США в минувшем столетии (от Лиги наций Вудро Вильсона (Woodrow Wilson) до принципа ‘четырех свобод’ Рузвельта и призыва Рейгана, обращенного к Михаилу Горбачеву: ‘Снесите стену!’).
Сама идея распространения демократии (дипломатическим путем, через программы гуманитарной помощи гражданскому обществу, свободным СМИ и т. д.) никогда не вызывала никаких сомнений. Проблема в том, что теперь ‘демократическую карту’ разыгрывают, чтобы оправдать войну в Ираке, а этим администрация Буша дает многим повод ассоциировать кодовое слово ‘демократия’ с военной интервенцией и насильственной сменой власти (заметим в скобках, что творящийся в Ираке хаос тоже нимало не способствует сохранению позитивного имиджа у бренда ‘демократия’). Особенно зыбкой почвой для Америки оказался Ближний Восток, где мы, с одной стороны, поддерживаем союзные, но недемократические режимы (Саудовская Аравия), с другой — отказываемся взаимодействовать с организациями наподобие ХАМАСа и ‘Хезбаллы’, хотя они и пришли к власти демократическим путем. Таким образом, наша обеспокоенность ‘соображениями свободы’ может вызвать большие сомнения.
Черным пятном на образе ‘американской модели’ стало применение пыток при администрации Буша. После событий 11 сентября американцы с пугающей легкостью отказались от конституционности в пользу безопасности. Теперь, в глазах многих неамериканцев, символом Америки стала не статуя Свободы, а тюрьма в Гуантанамо и несчастный пленник в тюрьме Абу-Грейб.
Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах спустя месяц, начнется новый цикл в американской, да и мировой политике. Демократы, скорее всего, завоюют еще больше кресел и в сенате, и в палате представителей. Кризис на Уолл-стрит уже перекинулся на Мэйн-стрит (ул. Главная — это название встречается в каждом маленьком городке США; оно стало нарицательным и символизирует американскую провинцию — прим. пер.); нарастает всенародное недовольство. Уже сейчас существует нечто вроде консенсуса касательно необходимости вернуться к практике регулирования некоторых отраслей экономики.
С точки зрения глобальной перспективы Америка утратит статус нации-гегемона, удерживавшийся ею до самого недавнего времени: этот факт подтверждается, в частности, нападением России на Грузию 7 августа. Способность Америки определять облик мировой экономики с помощью торговых договоров и через посредство МВФ и Всемирного банка сильно уменьшится; уменьшатся и наши финансовые возможности. Кроме того, во многих странах американские идеи, американские советы и даже американская гуманитарная помощь станет еще менее желанной, чем теперь.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, — кто из кандидатов лучше подходит на роль разработчика нового бренда для Америки? Образ Барака Обамы, конечно, в меньшей степени отягощен грузом недавнего прошлого, а его ‘надпартийный’ стиль позволяет ему находиться ‘выше’ фракционных разногласий. Кажется, что в душе он не идеолог, а прагматик. Однако его способности к поиску компромисса вскоре подвергнутся суровой проверке, так как ему придется договариваться не только с республиканцами, но и с неуправляемыми демократами. Маккейн в последнее время говорит почти так же, как Тедди Рузвельт (Teddy Roosevelt): яростно критикует Уолл-Стрит, обещает пролить кровь главы комиссии по ценным бумагам Криса Кокса (Chris Cox). Пожалуй, Маккейн — единственный член Республиканской партии, способный взять ее под контроль и, преодолев сопротивление, войти вместе с ней в пострейгановскую эпоху. Впрочем, похоже, что Маккейн до сих пор не определился с тем, какой он республиканец и каким принципам должна следовать новая Америка.
Рано или поздно американское могущество будет восстановлено. Не только США, но и весь мир, скорее всего, переживут упадок, и нет уверенности, что китайская или российская модель выдержит его с большим достоинством. США уже оправлялись после серьезных ударов — в 1930-х и 1970-х годах — благодаря гибкости нашей системы и упорству нашего народа.
Но удастся ли нам оправиться — зависит от того, насколько мы на самом деле способны проводить фундаментальные реформы. Во-первых, необходимо избавиться от навязанных при Рейгане ‘нерушимых’ принципов в налоговой и финансовой политике. Снижение налогов всегда проходит ‘на ура’, но вовсе не обязательно приводит к росту и вовсе не обязательно окупает само себя. Учитывая долгосрочные перспективы нашего финансового положения, будет лучше честно признаться, что гражданам в будущем придется платить самим за себя. Дерегулирование, равно как и неспособность регулирующих органов следовать за быстро меняющейся рыночной конъюнктурой, может обернуться колоссальными потерями, — мы с вами только что в этом убедились. Весь общественный сектор Америки — со всеми проблемами недофинансирования, со всем непрофессионализмом и всей деморализованностью — должен быть реформирован полностью, и ему должно быть заново привито чувство собственного достоинства. Ведь есть такая работа, справиться с которой может только государство.
Разумеется, как и при любых реформах, существует опасность впасть в ненужную крайность гиперкоррекции. Финансовые институты нуждаются в строгом контроле, но нельзя однозначно утверждать, что в нем нуждаются и другие отрасли экономики. Свободная торговля по-прежнему остается мощным локомотивом экономического роста и оружием американской дипломатии. Работникам необходимо предоставлять помощь в приспособлении к мировой конъюнктуре, а не закреплять их на их нынешних рабочих местах. А раз урезание налогов не привело к мгновенному процветанию — не надо думать, что к нему неизбежно приведет бесконтрольное повышение социальных расходов. Издержки, связанные с ‘выкупом’ финансовой системы, и долгосрочное ослабление доллара означают, что в будущем мы можем столкнуться с серьезной угрозой инфляции, проблему которой может усугубить безответственная фискальная политика.
Наконец, пусть даже многие перестанут прислушиваться к нашим советам, многие другие все равно смогут воспользоваться преимуществами, предлагаемыми рейгановской моделью. Конечно, речь не идет о дерегулировании финансовых рынков. Однако в континентальной Европе, например, трудящиеся до сих пор имеют длинные отпуска, короткую рабочую неделю, гарантии сохранения рабочего места и целый ряд льгот, что понижает их эффективность и к тому же ведет к долгосрочным финансовым проблемам.
Малоубедительная реакция на финансовый кризис демонстрирует, что самые основательные реформы нужно провести в области политики. Рейгановская революция положила конец полувековому господству либералов и Демократической партии в политике США, что открыло путь новым методам решения проблем, сопутствовавших той эпохе. Но прошли годы, и свежие идеи превратились в замшелые догматы. Ухудшилось качество политического дискурса: противоборствующие стороны теперь подвергают сомнению не столько идеи, сколько мотивации оппонентов. Все это еще больше затрудняет приспособление к новой, и без того трудной для нас реальности. Таким образом, главной проверкой американской модели на прочность станет проверка ее способности изобрести себя заново. Как выразился один из кандидатов в президенты, грамотный ребрендинг — это вам не свинью помадой мазать. Грамотный ребрендинг — это, в первую очередь, хороший продукт, а если его нет, то и продавать нечего. Таким образом, работы для американской демократии предстоит очень и очень много.
Фрэнсис Фукуяма преподает международную политэкономию в John Hopkins School of Advanced International Studies
***
Перевод — ИноСМИ