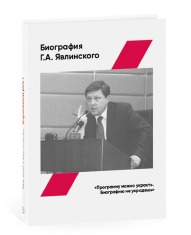Слово «литературовед» он не любит. А понятие «литературный критик» расшифровывает как «писатель, который пишет о других писателях». Он не доктор филологических наук и даже не кандидат, хотя работает в Институте Мировой литературы. «Но ведь и у Белинского не было учёных степеней», — говорит он. И ему веришь, слово его надёжно. Потому что он — Игорь Петрович Золотусский.
О СЕБЕ
— Я родился в семье, которую Достоевский назвал бы «случайным семейством». Если бы не перемещение масс, которое произошло в результате Октябрьской революции, мои родители могли бы не встретиться. У отца интересная судьба. Он еврей и в 1911 году вслед за братьями уехал в Палестину, потом работал в Египте, в США на заводе Форда. Вернулся в Россию, перевёз свою маму — мою бабушку в Америку. А сам романтически увлёкся русской революцией, вступил в партию, закончил Академию Генштаба и стал одним из крупных советских разведчиков. А мама русская, из крестьянской семьи, с Дальнего Востока. Тем не менее, она любила читать, что спасло её потом в лагере. Отец был арестован в 37-ом, а мама в 41-ом.
— Что значит «спасло»?
— Она была «политической», но уголовники не обижали её, потому что она пересказывала им содержание книг, которые когда-то прочла. Отца взяли, и мы остались с ней вдвоём, я часто болел, а она садилась возле меня и читала вслух «Войну и мир». Какие сладостные минуты! Мне было всего лет восемь, но я уже тогда воспринимал прозу Толстого как музыку! После, всё ещё маленьким мальчиком, я написал свой роман, потому что уже тогда понял, что всю жизнь буду работать со словом. Сейчас смешно вспоминать, но я создал повествование о советском композиторе, который, в конце концов, получил орден Трудового Красного Знамени!
— А что последовало за романом?
— Детская тюрьма! Маму посадили, а вместе с нею меня. Потом меня определили в детский дом в Подмосковье, в Ступинском районе. Его создал по образцу трудовой коммуны Макаренко один из воспитанников Антона Семёновича, герой «Педагогической поэмы».
— Можно считать, что вам повезло!
— Напротив. Нас там много и жестко били. Били не только старшие мальчишки, но и воспитатели: сапогами и поленом по спине; сажали в карцер. Голодный мальчишка, бывало, украдёт морковку — перед ним ставили кадку с огурцами и заставляли есть! Пока ребёнка не начнёт выворачивать. Я до сих пор не простил им этого! …Шла война, нас эвакуировали в Курган, и однажды я и трое моих одноклассников сбежали. Мне было тринадцать лет. Мы бежали на родину, в Москву. Но когда, уже в шестидесятые годы, повесть о побеге я принёс в журнал «Юность» (это моя единственная повесть — «Пока мы вместе»), главный редактор Борис Полевой строго спросил: «А почему ваши герои не отправились на фронт?» И повесть «зарубили». Она появилась позднее, в журнале «Сибирские огни». Мне было 34 года.
— Как сын репрессированных вы, наверное, не имели право на высшее образование?
— Я окончил Казанский университет! После, как патриот и максималист, поехал работать на Дальний Восток. И там, трудясь в железнодорожной школе учителем русского языка и литературы (!), я стал печатать свои литературно-критические статьи в местных газетах. А в 1961 году меня пригласили на семинар молодых критиков, сюда, в Переделкино, где мы сейчас с вами и сидим. Из этого замечательного семинара вышли многие наши замечательные критики: Лев Аннинский, Олег Михайлов, Алла Марченко, Владимир Гусев…
— Действительно блестящие имена!
— Вот тут мне крупно повезло! На семинаре меня заметил Корней Иванович Чуковский. Даже больше, чем заметил. Он прочитал мою критическую статью «Рапира Гамлета» и вызвался перевести её на английский язык. Это меня очень вдохновило. «Ваше дело — литература, — сказал он, — бросайте всё остальное!» То была статья о молодых прозаиках: Аксёнове, Конецком, который недавно умер и которого я любил… Они находились тогда в фаворе, а я обошёлся с ними сурово! Мне показалось, что это литература не самого высокого класса. В чём я не ошибся, на мой взгляд.
— А как же школа?
— Два года, что я провёл на железнодорожной станции «Амур», под Хабаровском, были мучительным временем. Ведь университет не дал никакого педагогического образования. За все пять лет у нас было всего два часа практики! Но я приехал к своим ученикам революционером: «Отбросим учебники, будем думать сами!» Конечно, это было насилие, которое шло от моего неукротимого романтизма. А я считаю, что человек должен идти не путём насилия, а путём любви… Шестиклассники всё равно зубрили учебник! А со старшими ребятами я, в конце концов, подружился. Хотя наша школа располагалась в бывшей столовой зеков, а сам я спал в бывшем лагерном бараке. Но мы читали Шекспира! В своей стенной газете критиковали директора. Так что из школы мне пришлось уйти. И на тот семинар в Переделкино я отправился уже корреспондентом местного радио. А Дальний Восток покинул в 63-ьем, переехал во Владимир.
— А как сложилась судьба ваших родителей?
— С отцом я встретился в 45, на Севере. Пока его не посадили во второй раз — в 51-ом, он успел оказать на меня, тогда, признаться, шпану и волчонка, очень большое влияние! И культурное и нравственное. До ареста он многое видел, брал за границу и меня с матерью, знал несколько языков. Отец объяснил мне, в какой стране мы живём, и с кем имеем дело. Власть обманула его лучшие ожидания. Я отцу поверил. Ведь он остался честным и мужественным человеком. Его пытали, но он не подписал ни одну из бумаг! Ни на кого не донёс. Так же повела себя и мама.
Когда он вышел из лагеря, ему запретили жить в 39 городах Союза, но он приехал за мной в Москву и забрал из ремесленного училища. Ведь после побега мы всё-таки добрались до Москвы! Вышли из Курганской области в марте, а прибыли в столицу в июне! Никогда не забуду санитарок, которые пригрели нас в поезде, который шёл на фронт! Начальство поезда выбрасывало нас, а они снова принимали… Такая чересполосица добра и зла. Ведь хотя власть унизила и едва не погубила моих родителей, она спасла меня. Если бы я оказался в 41-ом году на улице, я не знаю, чтобы со мной было. А детский дом научил не бояться никакой работы.
Моей старшей сестре повезло больше. Она оказалась в образцовом детском доме, который с подарками посещали послы иностранных держав… К сестре в 44-ом я и бежал.
А отец забрал меня и отвёз в Ульяновск, недалеко от которого нашёл себе работу; он смог поднять загубленный леспромхоз! Жил я в интернате. И, между прочим, окончил школу, в которой учился Владимир Ульянов! При чём с серебряной медалью!
— Как вам это удалось?
— В десятом классе к нам, в образцовую, мужскую школу, пришёл Михаил Павлович Черненко. Я благодарен ему до сих пор! Необыкновенный человек. В 1915 г. он окончил Петербургский университет, знал французский язык, однажды встретился с Экзюпери. Рассказывал о нём смешную историю: как-то ночью Экзюпери заели в наших казармах клопы, и тогда он вынес свою койку на лётное поле…
Михаил Павлович прошёл Первую Мировую, гражданскую, Отечественную войны. Стал одним из первых в России военных лётчиков. Его тоже посадили — за то, что он в конце двадцатых вышел из компартии — так он выразил своё отношение к первым политическим процессам.
Он срезал меня на первом же уроке: «Вы не говорите, а изрекаете». Потом стал следить за мной, за выпускное сочинение поставил «пять», пришёл ко мне в интернат и сказал: «Теперь, чтобы получить медаль, вы должны все экзамены сдать на «отлично»!» Такую поставил передо мной задачу. Какую медаль?! По математике у меня были тройки! Но он верил в меня! И, я и сам не знаю, как, действительно сдал все выпускные экзамены на пятёрки! Только по математике у меня были чётверки. Директор, её фамилия была Тупицына, дать медаль мне не пожелала. Тогда Михаил Павлович ей сказал: «Срежу всех ваших медалистов! Уж они-то точно не достойны пятерок по литературе!» В общем, добился своего! Он ведь прекрасно понимал, что эта медаль открывала мне дорогу в университет. Отец, когда мне её вручали, плакал…
С Михаилом Павловичем я встречался и после окончания школы. Мы, его ученики, всю жизнь любили его за то, что он полюбил нас. Хотя по-взрослому от нас дистанцировался, не амикошонствовал.
— Он поддержал в вас любовь к русской литературе?
— У него была прекрасная русская речь! У него и ещё у одной нашей учительницы. Всё-таки это были люди «оттуда», люди глубокой, дореволюционной культуры! А вообще, мою не сломленную любовь к русскому слову я считаю страстью, внушенной мне Богом и мамой! Как-то это присутствовало во мне даже в ремесленном училище, когда моим идеалом стала тельняшка, финка и золотой зуб! Я не помню ни одной книги, прочитанной в детском доме. Но я любил писать сестре в Москву длинные и частые письма. Бесконечно писали мы и солдатам на фронт. Были просто влюблены во фронтовиков! Вот, подо мной, на этой даче, живёт 90-летний Герой Советского Союза, писатель Емельяненко. Каждый год в день Победы я дарю ему цветы. Это прекрасный человек!
— А давно вы поселились в Переделкино?
— Нет, в 94 году. До меня тут в разные времена жили турецкий поэт Назим Хикмет, писатель-маринист Сажин, и даже полгода Пастернак. Но если честно, не люблю я литературную среду. Когда попал в Москву и стал работать в «Литературной газете», были живы Вениамин Каверин, Виктор Шкловский, Фёдор Абрамов, Тарковские! Я их всех очень любил! Провинциальная писательская среда человечнее, честнее московской, но талантливых провинция рано или поздно выдавливает. Талант шлифуется другими талантами. Они и определяют его истинное место.
— А что такое «талант»?
— Это свой взгляд на мир.
— Как вы относитесь к современной литературе?
— Она мне не интересна. Я по-прежнему максималист и читаю только очень хорошую прозу. Например, очень люблю Набокова. И советовал бы преподавать его в школе. Это прекрасная школа языка, которого в России больше нет. Я не о «Лолите», конечно. Знаете, для того, чтобы отличать порнографию от искусства, надо обладать культурой. Подростки ею ещё не обладают. Только поэтому я не о «Лолите». Пелевин? Сорокин? Пелевина я прочёл восемь лет назад и понял, что никогда читать его больше не буду. Читаю Пруста, и с огромным наслаждением! Это тоже постмодернизм, но, в отличие от пелевинского, на уровне гениальности!
— А ещё каких писателей, на ваш взгляд, следует преподавать в школе сегодня?
— Фёдора Абрамова, Бориса Можаева, Белова, Распутина, Шукшина… Почему? Они носители настоящего крестьянского языка, который до недавнего времени ещё кое-где сохранялся. Это писатели, которые продлили век русского языка! И уже за одно это они останутся в истории литературы. Это у них слава! А у Пелевина — «успех»… И уж, конечно, самый крупный писатель двадцатого века — это Платонов! Знаете, я в девяностых годах несколько лет преподавал в Финляндии русскую литературу. Был удивлён, что студенты, будущие переводчики, писали свои сочинения в основном о Платонове! Это когда многие русские Платонова не читали! Финны его «почувствовали». Одна студентка призналась, что если бы не русская литература, она бы уже в этом году покончила с собой! А ведь финны практичны и прагматичны!
— А вам не кажется, что Платонов выдумал искусственный русский язык? Изобрёл свой?
— Нет, не изобрёл. Он просто вошёл в эту стихию и нарушил некоторые литературные нормы. Но именно поэтому он смог передать такие потаённые чувства человека, о которых не сумели рассказать даже наши «золотые» классики! Его язык назвал то, что, казалось, назвать было невозможно!
А с языком сейчас плохо! Вымирает крестьянство! Тот последний слой населения, особенная культура которого давала нам язык чистый, как питьевая вода!
— Но, возвращаясь к современной литературе… До революции была мещанская культура, купеческая, крестьянская, аристократическая. Такое вот разнообразие культур. Как вы думаете, могут ли «новые русские», как нарождающийся класс, породить новую культуру, со своим особенным прекрасным языком?
— У них подсобный язык! Деловой! Литература об их жизни — это не литература даже, а какое-то словообразование! Литература — всё-таки дух высокий! А у них ничего этого нет. Однажды я встретился с Сорокиным, одним из тех, кого они материально поддерживают. Он показался мне надутым, и, знаете, не очень умным человеком, который к месту и не к месту порицал Льва Толстого. И того Толстой России не дал, и этого… Мне стыдно было его слушать! Эти ребята работают от «противного», они начали с пародирования советской литературы, в которой действительно было много официального. Но дальше, больше этого они не могут!
Помню, не без моего содействия опубликовал Виктор Ерофеев в «Литературке» статью «Поминки по советской литературе». Это прогремело, и явилось в своё время злым словом. Но после того сколько лет уже прошло! В советской литературе был ведь не только, например, Симонов — мужественный человек и хороший журналист, но писатель с языком вялым и слабым. Были Трифонов, Казаков, Шолохов, Тендряков!
Удивляет: Виктор Ерофеев — образованный человек! Он знает французский язык, у него диссертация чуть ли не о Достоевском! Но язык его прозы мёртв и пуст. Ерофеев работает в пределах языковых штампов. Нельзя создать великую литературу на мате и штампах: «Клёво, классно, потрясно, в принципе, прикольно». Это жаргонизмы. Ими всегда пользовался и Василий Аксёнов. Человек талантливейший. Но зачем он, задрав штаны, побежал в последнее время не за Толстым или Платоновым, а за постмодернистами? Аксёнов допускал мат и раньше. Но в «Ожоге» мат — форма страдания! Это когда отчаявшегося человека заставляют говорить не своим языком! Герой «Ожога» — мальчик, у которого репрессии отняли родителей. И Лев Толстой, случалось, поругивался. Правда, он после этого очень расстраивался. И Чехов. Но они никогда не несли мат в литературу!
А знаете, что такое «раскрученный», но бездарный писатель? Это мистификация человечества! «Чёрный квадрат» Малевича, поздний Пикассо (за исключением «голубого периода»), с его женщинами из треугольников… Наш философ о. Сергей Булгаков ещё в 1909 году написал статью «Труп красоты». Это о Пикассо. Человечество обманули, заставив безумно восхищаться им многие годы… Недавно я был на выставке Клода Мане. Картины сопровождались комментариями Марселя Пруста. И после Клода Мане мне не хотелось идти к Пикассо! Я даже написал статью, которая называлась «Похвала красоте». После Мане и Ренуара Пикассо умер в моём сердце.
— В истории литературы, отечественной и зарубежной, писатели часто сбивались в группы, чтобы выжить. Сбиваются и сейчас. Как вы к этому относитесь?
— Я никогда не входил ни в какие группы и направления. И когда я в «Рапире Гамлета» покритиковал модных писателей — шестидесятников, представляете, что творилось! Один критик критиков назвал меня даже «стронцием девяносто». Потом я стал ориентировать молодых на язык прозы Солженицына, но эти мои вещи не печатали.
— На «Матрёнин двор»?
— Нет. На язык «Одного дня Ивана Денисовича». В этой повести Солженицын страдает вместе с героем, а в «Матрёнином дворе» он наблюдает за чужими страданиями. Это разные позиции. Страдает и Платонов. В начале революции он даже сравнивал Ленина с Христом. И это можно понять. Платонов вышел с самых низов, сын железнодорожного слесаря, мастера высокой закалки, внук «богомаза» — иконописца. Он рос среди лопухов, но до него доносился звук колокола. Благодаря своим разочарованиям, Платонов даже изменил свой язык. Не понятно даже, откуда он «пошёл». Может быть, от Босха… Страдание понятно всем. Для него не нужно особого читателя, салонного. Тут я архаичен.
О ГОГОЛЕ
— Поэтому вы пишите о классиках русской литературе: Гоголе, Достоевском, Толстом, Булгакове? Недавно выступили на днях памяти Николая Васильевича в Гоголевской библиотеке…
— От Гоголя до сих пор оторваться не могу. Сейчас работаю над книгой «Гоголь и Достоевский». Николай Васильевич, конечно, моя самая большая любовь, за которую я, можно сказать, и сам заплатил страданием. Когда я начал работать над книгой о нём для серии «Жизнь замечательных людей», у меня закровоточила желудочная язва. Гоголь ведь тоже наставлял меня на путь истинный, после родителей и Михаила Павловича…
Сближение с Гоголем началось у меня в 36-37 лет. Такая личность притягивает очень сильно, и… порабощает порой! Это особое состояние. Но как можно было писать биографию Гоголя, оставаясь только самим собой? Или наоборот, перевоплощаясь целиком в Гоголя? Надо было отойти от него на безопасное расстояние. Это и далось мне ценой здоровья. В 73 году. Гоголь уложил меня на больничную койку, и только тогда я понял, что всё, что писал о нём прежде, бред собачий. Хотя я десять лет собирал материал о Гоголе! В архивах работал, над его текстами, принципиально не читая о нём ничего, что до меня написали. В конце концов, мне удалось освободиться из-под власти Гоголя, даже посмотреть на него с юмором. Вот тогда и удалась моя книга. Этот десятилетний труд, наверное, — самое лучшее время моей жизни! Самое значительное.
— Пруст, Набоков, Гоголь… Это ваше «общество мёртвых поэтов»?
— К Гоголю я отношусь как к живому. Я облазил все места, где он жил; даже бывал за границей. И Гоголь всегда шёл возле меня, мягко опираясь на свою тросточку. Поэтому я не люблю разговаривать о его смерти. Мама говорила мне: «Что ты всё пишешь об этом Гоголе? Он такой противный! Он женщин не любил!» А когда прочла мою книгу, сказала: «Знаешь, я полюбила Гоголя!» Это было для меня высшей похвалой. Я ведь даже открыл музей Гоголя в Васильевке, на его родине, на Украине!
— Ваша первая книга о нём выдержала уже три переиздания. Последнее вышло с восстановленными купюрами…
— Это страницы, касающиеся спора Гоголя с Белинским. Николай Васильевич всё видел, оказывается! Считается, что первым дал оценку социалистическим течениям в России Достоевский. Нет, Гоголь! Это развёрнуто в его «Выбранных местах из переписки с друзьями». Не даром Лев Толстой сказал, что самые лучшие страницы в творчестве Гоголя — его «Выбранные места», некоторые из писем. Недавно я сделал доклад об этом в возрожденном обществе «Любителей русской словесности». Сейчас они выбрали меня почему-то своим почётным Председателем. Два года назад в Ясной Поляне меня допустили в библиотеку Льва Николаевича, и там я прочёл том Гоголя с пометками Толстого… Так что можно сказать, обществе «Любителей русской словесности» я сделал эксклюзивный доклад. Ведь до меня никто об этом не писал! За каждую главу «Выбранных мест…» Толстой ставил Гоголю отметки! От «пяти с плюсом» до нуля! (Смеётся). Всюду, где Гоголь превозносит Церковь и царя, Толстой ставит ему единицы и ниже. Но Лев Николаевич совершенно приемлет желание Гоголя стать лучше! Совершеннее. Потом о себе Толстой напишет в дневниках: «Я плох! Плох!» Этот нравственный императив связывает обоих. Бесстрашие публичного самобичевания, публичной проповеди.
— А нет ли тут некоторого самолюбования?
— Кокетства?.. По крайней мере, Достоевский в «Селе Степанчикове и его обитателях» спародировал отрывок из Гоголевского «Завещания», которое Николай Васильевич обнародовал ещё при жизни. Помните, Фома говорит: «Не ставьте памятника мне!»? В «Завещании» присутствует и другая нелепость: «Я прощаю всех… Но только попробуйте меня не простить!» (Смеётся). После, конечно, Гоголь посмотрел на себя критически и заметил не без самоиронии, что в «Завещании» размахнулся «этаким Хлестаковым». Но Толстой не мог не принять всерьёз его мысли, что общество не исправится, пока не исправится «единица его — человек». Толстой даже сказал, что Гоголь наш русский Паскаль. Но «того» Паскаля вознесли, а нашего исплевали!
Но исплевали тогда! А вот недавно я купил «Пятьдесят сочинений для абитуриента!» Знаете, шпаргалка такая? И понял, что моя идея 70-х годов, что «Мёртвые души» не «сатирическое произведение», а поэма, — всё же глубоко проникла в современное нам общество! Что меня поразило на днях ещё: выходит двухтомник — «Мёртвые души» и моя книга о Гоголе, с предисловием… Виктора Черномырдина! И знаете, как оно озаглавлено? «Великий подвиг любви»! О «Мёртвых душах»! А впервые это прозвучало в моей книге. Всё, «не ставьте памятника мне!» Как это далеко от оценки Некрасова — «карающая лира»!
— Ведь потому, видимо, и «поэма», что о любви!
— Да-да… Первый том «Мертвых душ» писался одновременно со второй редакцией «Тараса Бульбы»! И оба эти произведения — крылья Гоголевской души. Героическое и любовное. Это, собственно, главная идея в моей книге о нём…
— Но почему Гоголь сжёг второй том?
— Это разговор долгий и мучительный. На середине пути ко второму тому Николай Васильевич выпустил «Выбранные места», которые принесли ему страшно много горя. Когда второй том был готов, друг Гоголя, о. Матфей, предупредил Николая Васильевича: «Смотрите! Ведь засмеют! Пуще, чем за «Переписку!» Это страшно на Гоголя подействовало. Но, на мой взгляд, не это привело к уничтожению второго тома. А то, что рукопись показалась автору несовершенной. В ходе нормального творческого процесса. Гоголь-художник был к себе беспощаден! Да и сжёг-то Николай Васильевич только набело переписанные листы второго тома. А черновые остались в его портфеле! Вместе с письмами Пушкина и статьёй «Божественная литургия». Сожжения не было совершено в состоянии аффекта! И мне знакомо это состояние Гоголя. Когда сделанное кажется тебе превосходным, а потом вдруг ты обнаруживаешь, что всё плохо. А Гоголя расстраивало каждое ложное слово… Ему вполне могло показаться, что во второй том проникло проповедничество, публицистика! Хотя те главы второго тома, что дошли до нас, показывают: художественная мощь Гоголя не увяла!
— Продолжение «Мёртвых душ» задумывалось как «чистилище» для главного героя. Но возможно ли очищение души Чичикова? Он далеко не святой.
— Во втором томе Чичиков попадает в тюрьму, рвёт на себе только что сшитый фрак наваринского «дыма с пламенем»… Нет, Гоголь не считал, что для очищения у его героя душа мелкая, и относился к нему с любовью. Разве может подлец так провалиться? Так вот запросто проболтаться какой-нибудь Коробочке? Или Ноздрёву? По простодушие сделал это Чичиков! Как романтик! Ни одна авантюра ему удалась! Всюду провалился! И во втором томе — тоже, когда подделывает завещание. Бог-то иногда грешных любит больше, чем святых!
— А поверил бы читатель в исправление Чичикова?
— Писатель, уровня Гоголя, Лермонтова, которого я очень люблю, Толстого, не может писать «мимо себя». Все они старались жить соответственно со своими писаниями.
— Так, может быть, «Выбранные места» и «Завещание» потому и были обнародованы Гоголем, что он на примере собственных духовных перемен желал показать читателям, что при желании, то же возможно с каждым? Возможно и с грешным Чичиковым? У которого душа всё ещё живая? Ведь Гоголь времён «Выбранных мест» не предполагал, что уйдёт из жизни столь скоро и неожиданно для всех? В какие-то две недели.
— Наши «золотые писатели» потому и «золотые», что исповедовали идеалы, которыми жили сами. Гоголь говорил: «Я не могу произвести прекрасного человека, пока сам не стану им»! Самыми прекрасными героями русской литературы, на самом деле, были сами наши русские писатели! Я их всех люблю как людей!.. И как я могу, например, полюбить Сорокина? Ну, как?
О ДОСТОЕВСКОМ
— А Достоевского? Кажется, кто-то из его современников сказал, что Достоевский, вышел из «Шинели» Гоголя.
— Сам о себе он таких признаний не делал. Потому что вышел из всего Гоголя, и в частности, из «Выбранных мест». Я уже писал в нескольких своих статьях, что Гоголь дал «Выбранными местами» все идеи будущих романов Достоевского. И, прежде всего, это идея о гордости ума. Фёдор Михайлович посвятил борьбе с этой гордостью все свои романы! Но Гоголь раньше его написал, в последней главе «Выбранных мест», в «Светлом воскресенье»: выгнали Христа из храма на улицу, потому что человек во всём усомниться, только в уме своём не усомниться!
Достоевский пишет даже о «язве» гордости ума! То есть такого «развитого» сознания, когда научные знания уже начинают разлагать само сознание человека, и его целостность.
— Сейчас много говориться о христианстве Достоевского…
— На мой взгляд, Достоевский выступает в своих романах как оппонент Христа. Не все могут с этим согласиться. Не даром им рождено выражение, что сердце человека — это место постоянной битвы Бога и дьявола. В самом писателе было заключено противоречие между умом, знаниями и верой, совестью… В «Майской ночи» у Гоголя выходят русалки на берег и кружатся в хороводе. Среди них надо угадать ведьму. А они все прозрачны! Как узнать? Ведьму находят по чёрному пятну внутри неё. «Страшна душевная чернота», — первым скажет Гоголь! Он спустился в неё с фонарём. А Достоевский ещё глубже спустился! Потому, может быть, что такого страха религиозного, как у Гоголя, у него уже не было! Достоевского уже коснулось разлагающее влияние научного знания.
— Можно ли в таком случае говорить, что Достоевский приемник Гоголя?
— Это и не преемственность, но и не отторжение. В «Бедных людях», например, Достоевский подхватывает гоголевский образ «маленького человека». Но ведь и пародирует его! Макар Девушкин очень не лестно отзывается о «Шинели»: «Злонамеренная книжка», «пасквиль»!..
О БУДУЩЕМ
— Да, никому не хочется ощущать себя «маленьким человеком»… А от какого гения прошлого русской литературы мог бы, на ваш взгляд, оттолкнуться гений нашего времени?
— От Достоевского, конечно. В двадцатом веке это самый модный писатель. Правда, мода на него уже проходит. Почему от Достоевского? Я не сомневаюсь в том, что он любил Христа и тянулся к Нему. Но заглянем в «Легенду о Великом инквизиторе». Это главная идеологическая вещь Фёдора Михайловича. Ведь он идеолог, в отличие от Гоголя. Потому что Гоголь даже в «Выбранных местах» — чистой воды поэт, романтик; и до такой высоты поэзии Достоевский никогда не смог добраться! Но Достоевский велик в другом! Его инквизитор говорит: «Людям не нужна свобода»!
Вдумайтесь в эти слова. Они весьма резонны на фоне того, к чему мы пришли сегодня. На Западе, например, существует не видимость свободы, а сама свобода. А что толку? И Запад сейчас находится в кризисе. Помните у Блока: «Эх, эх, без креста!»… Как соединить свободу человека и крест его?.. Порою страшный, тяжелый крест? Об этом, вероятно, станут думать писатели наступившего двадцать первого века.
Потому что есть разные понимания свободы. И есть такое понимание, что свобода — это всё-таки самоограничение. Это власть человека над собой! Высшая любовь к самому себе, на мой взгляд, это, когда человек сам может себя урезонить. А до этого мы пока с вами не поднялись, ведь правда?
А кто-то, поняв, что свобода — это когда всё можно. И тогда у нас после великой литературы зародилась «фекальная».
— Может быть, из подражания Западу?
— Но Россия и Запада — это всё-таки не одно и то же. Россия всегда была сильна тем, что её человек жил по неписанным правилам.
Эти правила ему диктовала совесть. А не адвокаты или законы. И в этом заключалось, с точки зрения иностранцев, самое удивительное и прелестное в России. Потому что на Западе население приучают — с детства находится в послушании у закона писанного. А совесть? Что это? Она не видна, она как будто не осязаема…
Знаете, что такое русский писатель? Я вам скажу так. Сначала Набоков показался мне чуждым моей душе, холодным и потому неприятным. Особенно, когда я прочитал его вещи о Гоголе. Но когда я прочитал всего Набокова, я понял, что этот вид холодности создавался им специально для иностранцев. А на самом деле это писатель с огромным запасом любви! Огромным! Именно поэтому Набоков — писатель русский.
Интервью вела Ирина Репьева
http://www.rspu.ryazan.ru/~dante/Mirrors/hrono