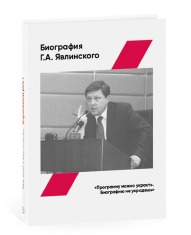V. Другие критерии
1. Дино Кофранческо наиболее часто среди итальянских исследователей обращался к теме правых и левых и, безусловно, заслуживает пристального внимания благодаря своему тонкому аналитическому уму. Согласно Кофранческо, если с развенчанием марксизма-ленинизма мы навсегда распрощались с черно-белым прочтением оппозиции правого и левого, это еще не означает, что сама оппозиция вовсе лишается смысла: «освобождение человека от несправедливой и подавляющей власти [:] остается, по зрелом размышлении, прочным фундаментом левого движения как «категории политического», способной противостоять любому процессу демифологизации». С другой стороны, и правое движение «воплощает одну из модальностей человеческого», поскольку выражает «укорененность в почве природы и истории», «защиту прошлого, традиции, наследия»[6]. Первостепенную важность в определении правого движения, предложенном в этой новой интерпретации, приобретает не священное, как у Лапуса[7], но традиция, тогда как характерной чертой левого движения оказывается понятие эмансипации (которое одновременно является ценностью, причем, как и «традиция», позитивной ценностью). Отсылка к традиции, понимаемой по-разному и проанализированной в различных своих значениях, таким образом, является постоянной характеристикой дихотомии правые-левые. [:]
Дух правого движения может быть синтетически выражен в лозунге: «Ничего вне традиции и против нее, все внутри традиции и согласно ей». Если же можно констатировать, что существуют различные модальности правого, то это связано с различными значениями, которые придаются слову «традиция». Кофранческо указывает шесть таких значений: традиция как архетип, как идеализирующее принятие осевой или решающей эпохи в истории человечества, как верность нации, как историческая память, как общность судьбы и, наконец, как осознание сложности действительности. За этими разными значениями термина проглядывают различные движения или даже просто различные личные позиции, но общий им дух может объяснить, как исторически в разные моменты может происходить переход от одной к другой. Например, переход «между двумя мировыми войнами значительного числа активных политиков из правых консерваторов в правые традиционалисты и оттуда — к тоталитаризму»[8].
То, к чему стремится Кофранческо, — не столько составление перечня по большей части предвзятых, пристрастных, идеологически маркированных мнений людей или групп, которые провозглашают себя правыми или левыми, сколько разработка «критического» разграничения двух понятий, причем под критикой понимается оценочный или просто описательный анализ, который отказывается нагружать рассматриваемые термины взаимоисключающим значением и постоянно отдает себе отчет в том, что правое и левое — понятия не абсолютные, но исторически относительные или же «всего лишь два возможных способа классифицировать различные политические идеалы», и причем способы «не единственные и не всегда самые релевантные»[9]. «Критическое употребление» двух понятий, согласно Кофранческо, становится возможным лишь тогда, когда мы отказываемся воспринимать их как описание совокупностей конкретных исторических явлений и интерпретируем их как глубинные подходы, как интенции, согласно определению Карла Мангейма. Иными словами, некоторую путаницу или наложения, которые приводят к мысли, что разграничение либо изначально неверно, либо стало бесполезным в определенном историческом контексте, где левые и правые находятся на одной и той же территории, можно объяснить лишь в том случае, если два термина понимаются не как обращающиеся к глубинной интенции, к отношению, которое остается постоянным вне зависимости от принятых систем правления, я сказал бы даже (хотя наш автор и не употребляет этого слова, но оно широко распространено в определенной историографии) — к «менталитету».
С точки зрения менталитета, с этим необходимым уточнением, «правый — это тот, кто озабочен, в первую очередь, охраной традиции; левый же — тот, кто намеревается прежде всего освободить себе подобных от цепей, в которые их заковали привилегии расы, сословия, класса и т.д.»[10]. «Традиция» и «эмансипация» могут быть восприняты также как конечные или фундаментальные цели, от которых, таким образом, невозможно отказаться, как одной, так и другой стороне: они достигаются при помощи различных средств в зависимости от времени и ситуации. Поскольку одни и те же средства могут браться на вооружение то левыми, то правыми, следствием этого может стать то, что правые и левые могут встретиться и даже поменяться ролями, оставаясь при этом самими собой. Но именно из возможности использования одних и тех же средств рождается путаница, к которой придираются противники различия.
С помощью подходящих исторических примеров Кофранческо исследует ряд тем (которые, вопреки поспешным и предвзятым утверждениям некоторых авторов, сами по себе не являются ни правыми, ни левыми, потому что принадлежат обеим сторонам, по существу продолжающим противостоять друг другу, и это противостояние не отменяется такой принадлежностью): милитаризм, антиклерикализм, антикоммунизм, индивидуализм, технический прогресс, использование насилия. Речь идет, как очевидно всякому, о разграничении существенного различия, то есть того, которое касается идеального вдохновения, глубинной интенции, менталитета, и ряда несущественных или лишь воображаемых различий, зачастую используемых как полемические орудия в конъюнктурной политической борьбе. Их часто путают с существенными и применяют, чтобы давать неверные ответы на вопрос о природе различия и отрицать это различие, когда в конкретной ситуации оно не оправдывает ожиданий. Отношение между существенным различием и несущественными различиями может быть объяснено посредством разграничения постоянной конечной ценности и переменных, то есть могущих подменять одна другую, инструментальных ценностей — такой вывод можно сделать из утверждения, что «свобода и власть, процветание и режим строгой экономии, индивидуализм и антииндивидуализм, технический прогресс и ремесленный идеал в каждом случае понимаются как инструментальные ценности, то есть ценности, которые поднимаются на знамя или отвергаются в зависимости от того вклада, который они могут внести, соответственно, в укрепление традиции или в эмансипацию от какой-либо привилегии»[11].
К этому разграничению, основанному на менталитете, Кофранческо добавляет, но не противопоставляет ему, разграничение, основанное на двух отношениях не оценочного, но познавательного характера, одно из которых он называет классическим или реалистическим, а другое — романтическим или спиритуалистическим. Первое из них — это отношение критически настроенного наблюдателя, второе же характерно для человека, переживающего политику в первую очередь чувствами, а не разумом. Из шести великих идеологий, родившихся в XIX и XX веках, три — классические (консерватизм, либерализм, научный социализм), три — романтические (анархизм, фашизм и правый радикализм, традиционализм).
Уточнив, что эти шесть идеологий исчерпывают все возможное поле и в любом случае являются лишь идеальными типами, наш автор совершает следующий шаг: констатирует, что разграничение между правыми и левыми не совпадает с разграничением между классическим и романтическим типом отношения к политике. Рассмотрев возможные их комбинации, он приходит к выводу, что правыми являются две романтические идеологии, традиционализм и фашизм, и одна классическая, консерватизм, а левыми — одна романтическая, анархизм, и одна классическая, научный социализм, тогда как оставшаяся классическая идеология, либерализм, может быть правой или левой в зависимости от контекста.
Если по отношению к оппозиции правое-левое Кофранческо не занимает определенной позиции и, по видимости, судит ее беспристрастно, то как историк и политический аналитик он не скрывает своего предпочтения по отношению к одному из членов второй оппозиции, а именно классическому отношению, в сравнении со вторым, романтическим. Может показаться, что он хочет сказать: не важно, справа или слева подходить к политическим проблемам, главное — делать это классическим, а не романтическим образом. [:]
Остается задать себе вопрос, является ли пара, заново определенная таким образом (с одной стороны, традиция, с другой — эмансипация), действительно парой противоположностей, каковой она должна быть, если предназначена для того, чтобы отражать антагонистический универсум политики. Противоположностью традиции должна была бы быть не эмансипация, а инновация. И наоборот, антонимом эмансипации должна была бы быть вовсе не традиция или консерватизм, но порядок, установленный свыше, патерналистским правительством или ему подобными. Разумеется, обе пары противоположностей, традиция-инновация и консерватизм-эмансипация, привели бы к тому, что было бы заново предложено привычное, не слишком оригинальное разграничение между консерваторами и прогрессистами, которое, по крайней мере в идеале, считается присущим парламентской системе как основное разделение между двумя противостоящими парламентскими группировками. Но смещение правых в сторону такого благородного термина, как традиция (вместо консерватизма или иерархического порядка), а левых — в сторону не менее благородной эмансипации (вместо инновации) может быть сочтено явным признаком того критического, намеренно неидеологизированного отношения, которое автор положил для себя обязательным с самого начала исследования, несмотря на то что в результате использования двух аксиологически позитивных терминов вместо двух негативных или, того хуже, одного позитивного и одного негативного смысл противопоставления рискует быть размытым[12].
2. В то время как Кофранческо исходит из необходимости отграничения существенного элемента оппозиции от несущественных, Элизабетта Галеотти отталкивается от предварительного требования различать контексты, в которых эта пара используется. Таких контекстов, по ее мнению, существует четыре: бытовое словоупотребление, язык идеологии, историко-социологический анализ, исследование социального воображения (в качестве примера последнего она приводит работы Лапуса, которые подробно комментирует)[13].
Эта исследовательница интересующего нас разграничения обращается к анализу идеологий, и вновь целью анализа является нахождение наиболее всеобъемлющих и исчерпывающих понятий, которые позволили бы классифицировать доминирующие идеологии последних двух веков максимально упрощенно и вместе с тем максимально полно. Возвращаясь отчасти к выводам Лапуса, она выбирает для правых термин «иерархия», а для левых — «равенство». И в этом случае оппозиция не такова, какой следовало бы ожидать. Почему «иерархия», а не «неравенство»?
Исследовательницу беспокоит, что использование менее сильного термина «неравенство» вместо более сильного «иерархия» ложным образом сместит вправо либеральную идеологию, которая, хотя и не принимает всех идей равенства, которые обычно характеризуют левые движения, и, таким образом, может в ряде аспектов быть названа антиэгалитарной, не должна смешиваться с идеологиями, для которых неравенство между людьми естественно, изначально присуще, неустранимо и которые, следовательно, более правильно будет называть «иерархическими», а не «антиэгалитарными». То есть можно сказать, что есть разные виды антиэгалитаризма: все зависит от рода неравенства, которое принимается или отвергается. Социальное неравенство, с которым мирится либерализм, по мнению Галеотти, качественно иное, чем неравенство, к которому обращается иерархическая мысль. Либеральное общество, в котором свободный рынок порождает неравенство, не есть общество жестко иерархизированное.
Разграничение между либеральным и авторитарным антиэгалитаризмом ясно, и хорошо, что этот вопрос был поднят. Более сомнительно, имеет ли это разграничение какое-либо отношение к разграничению правых и левых, и даже не столько сомнительно, сколько спорно. Язык политики сам по себе не слишком точен, поскольку по большей части заимствует слова из бытового языка, и помимо того, что он неточен с описательной точки зрения, он состоит из слов двусмысленных, если не амбивалентных в том, что касается их оценочных коннотаций. Достаточно подумать о различной эмоциональной нагрузке, которую несет как для произносящего, так и для слушающего слово «коммунизм» в зависимости от того, встречается ли оно в речи коммуниста или антикоммуниста. В любой политической распре точка зрения, понимаемая как выражение убеждения (причем не важно, частного или публичного, индивидуального или группового), опирается на симпатию или антипатию, притяжение или отвращение к какому-либо человеку или событию: в этом качестве она неустранима, проникает повсюду, и если ее не всегда замечают, то только потому, что она стремится спрятаться и зачастую не очевидна даже для самого ее носителя. То, что либерализму можно нанести оскорбление, если поместить его справа, а не слева, — точка зрения, обусловленная аксиологически позитивным употреблением термина «либерализм» и в то же время аксиологически негативным употреблением термина «правые».
Размышления о правых и левых, которые я сейчас анализирую, родились в рамках исследования нового радикального правого движения, осуществленного учеными, которые испытывают к этому движению глубокое (и, на мой взгляд, вполне оправданное) отвращение. В то же время автор исследования никогда не скрывал своих симпатий к либеральной мысли. Контекст исследования таков, что приводит к подчеркиванию негативных аспектов правого движения, и при этом взгляды исследовательницы таковы, что либерализм считается позитивной идеологией. Может закрасться подозрение, что перенесение критерия разграничения между правыми и левыми с понятия «неравенство» на понятие «иерархия» является стратагемой (пусть даже неосознанной), имеющей целью отвести от либерализма обвинение в том, что в определенной исторической обстановке он имеет обыкновение уклоняться вправо.
О мнениях не спорят. Можно лишь сделать историческое наблюдение, что, с тех пор как в Европе возникли социалистические партии, либеральные идеологии и партии в бытовом словоупотреблении стали восприниматься как правые (как в Италии и во Франции) или центристские (как в Англии или в Германии). Американские либералы — особый случай. Поэтому я поспорил бы с уместностью замены простого и ясного критерия противопоставления (такого, как равенство-неравенство) критерием менее сбалансированным (равенство-иерархия) лишь с целью спасти излюбленную идеологию от негативной оценки. Мне представляется, что это очередной интересный и довольно показательный случай совмещения аналитического отношения с идеологическим, аналогичный тому, о котором шла речь в предыдущем разделе. Этот случай еще раз показывает, хотя в том нет особой необходимости, насколько сложна интересующая нас проблема и насколько неуловима оппозиция, о которой мы рассуждали в первой главе.
Вместо того чтобы оспаривать мнение, возможно, было бы полезнее попытаться понять мотивацию его автора. Поскольку основной причиной данной корреляции, на мой взгляд, стало то, что пространство правого движения оказалось ограничено его подрывными проявлениями, спасательным кругом для либеральной идеологии могла бы стать другая стратагема, а именно разграничение правых на радикальных и умеренных, которым, с другой стороны, соответствовали бы радикальные и умеренные левые. У такого решения было бы два преимущества: бытовое словоупотребление не искажалось бы, и не пришлось бы использовать несбалансированный критерий разграничения.
Галеотти сталкивается еще с одной весьма интересной проблемой, чрезвычайно запутанной из-за того, что к политическим проблемам зачастую подходят без должного аналитического инструментария: проблемой «инакости». Говорят, что открытие «другого», темы, которую помещают на флаг феминистские движения, привело к кризису оппозиции правые-левые. Исследовательница справедливо отмечает, что это не так: наличие «другого» совместимо как с правой идеологией, что естественно, так и с левой, поскольку эгалитаризм, или устранение всех и всяческих различий, представляет собой лишь крайний горизонт левого движения, скорее в идеале, чем в реальной жизни. Равенство, о котором говорят левые, — это почти всегда равенство чего-то, «secundumquid» (согласно чему-то), равенство труда или равенство потребностей, но никогда не абсолютное равенство.
Просто невероятно, насколько сложно оказывается донести до понимания тот факт, что открытие инакости абсолютно нерелевантно по отношению к принципу справедливости, который, утверждая, что с равными нужно обращаться одинаковым образом, а с неравными — по-разному, признает, что наряду с теми, кто считаются равными, существуют и те, кто считаются неравными или другими. Если же задаться вопросом о том, кто такие равные, а кто — неравные, то это историческая проблема, которую невозможно решить раз и навсегда, поскольку критерии, которые в том или ином случае применяются для объединения разных людей в категорию равных или вычленения равных в категорию неравных, постоянно меняются. Открытие «другого» не имеет значения для проблемы справедливости, если оказывается, что речь идет об отличии, оправдывающем дискриминирующее отношение. Путаница настолько сильна, что самая великая эгалитарная революция нашего времени, а именно — феминистская революция, благодаря которой в наиболее развитых обществах женщины добились равноправия в многочисленных областях, начиная с политических прав и кончая семейными и трудовыми отношениями, была совершена под лозунгом «инакости».
Категория «другого» лишена аналитической автономии по отношению к теме справедливости по той простой причине, что не просто женщины отличаются от мужчин, но каждая женщина и каждый мужчина отличаются от других. Инакость становится релевантной, когда она ложится в основу несправедливой дискриминации. Но несправедливость дискриминации зависит не от факта инакости, а только от признания необоснованности дискриминирующего обращения.
3. Разнообразные исторические и критические наблюдения Марко Ревелли о правых и левых рождаются, аналогично наблюдениям Элизабетты Галеотти, в ходе спора о «новой правой». Широта исторического горизонта, который охватывает Ревелли, и разносторонний характер его разработок, связанных с исследуемой темой, беспрецедентны. Как я уже неоднократно говорил, одна из причин кризиса этой бинарной оппозиции состоит в нападках, которым подвергли ее реставраторы правого движения, после падения фашизма, по видимости, оказавшегося в затруднительном положении. В действительности, возникновение новой правой само по себе является подтверждением старинного противопоставления: термин «правые» обозначает часть пары, второй частью которой являются «левые». Как я не раз повторял, нет правых без левых и наоборот. Ревелли также исследует разнообразные аргументы, которые приводились для отрицания этого разграничения: исторические, политические, концептуальные и так далее. Убедившись в сложности изучаемой проблемы, он исследует различные точки зрения, с которых может наблюдаться это разграничение, и надлежащим образом выделяет разнообразные критерии, в зависимости от которых оно может осуществляться и которые исторически применялись[14]. Благодаря глубокой осведомленности о сложных перипетиях спора, ему удается исследовать проблему во всех ранее рассмотренных аспектах и предложить полную ее феноменологию. Что касается природы разграничения — предварительной проблемы, мнение по которой выразили также и предыдущие авторы, Ревелли настаивает на пункте, который заслуживает комментария.
Два термина, «правое» и «левое», — не абсолютные понятия. Они относительны. Это не сущностные и не онтологические понятия. Они не являются качествами, изначально присущими политическому универсуму. Это места «политического пространства». Они выражают определенную политическую топологию, которая не имеет никакого отношения к политической онтологии: «Невозможно быть правым или левым в том же смысле, в каком люди говорят, что являются «коммунистами», или «либералами», или «католиками»»[15]. Иными словами, правое и левое — не такие слова, которые обозначают зафиксированное раз и навсегда содержание. Они могут наполняться различным содержанием в зависимости от времени и ситуации. Ревелли приводит в качестве примера перемещение левого движения в XIX веке от либерального к демократическому и, наконец, социалистическому. То, что является левым, является таковым по отношению к тому, что является правым. Тот факт, что правое и левое противостоят друг другу, означает лишь то, что невозможно быть одновременно правым и левым, но ничего не говорит о содержании двух противопоставленных сторон. Противопоставление остается, несмотря на то что содержание двух членов оппозиции может меняться.
Повторим еще раз: «левые» и «правые» — термины, которые в политическом языке начиная с XIX века и вплоть до настоящего момента употреблялись для обозначения осевого универсума политики. Но этот же самый универсум может обозначаться, и в другие времена действительно обозначался, другими парами противопоставленных понятий, одни из которых обладают большой описательной ценностью, как, например, «прогрессисты» и «консерваторы», а другие меньшей, как, например, «белые» и «черные». Пара «белые-черные» также указывает только на полярность, то есть означает только то, что нельзя в одно и то же время быть белым и черным, но абсолютно не дает представления о политической ориентации одних или других. Относительность двух понятий можно продемонстрировать также, заметив, что неопределенность содержания и, следовательно, возможная его мобильность приводят к тому, что то, что является левым по отношению к определенному правому, может, при смещении к центру, стать правым по отношению к левому, оставшемуся на месте, и, симметричным образом, то, что является правым, смещаясь к центру, становится левым по отношению к правому, которое не сдвигается с места. В политической науке известен феномен «левого уклона», равно как и симметричный ему феномен «правого уклона», согласно которому тенденция смещения к крайним позициям приводит к тому, что в обстоятельствах особого социального напряжения формируется левое движение, более радикальное, чем левый фланг официального левого движения, и правое движение, более радикальное, чем правый фланг официального правого движения: левый экстремизм смещает левых вправо, а правый экстремизм — правых влево.
Настойчивое, причем вполне оправданное внимание к пространственному образу политического универсума, которое порождает метафорическое использование понятий «правого» и «левого», побуждает к новому наблюдению: когда говорят, что два парных термина противостоят друг другу, то, при желании развить эту метафору, на ум приходят медаль и ее оборотная сторона, причем правое не обязательно соответствует лицевой стороне медали, а левое — оборотной, или наоборот. Принятые выражения, которые используются для отражения этого размещения, — это «с одной стороны» и «с другой стороны». Однако вышеприведенные факты смещения левых вправо и наоборот помещают правое и левое не напротив друг друга, но одно за другим на непрерывной линии, которая позволяет постепенно переходить от одного к другому. Единственный пространственный образ, которого не допускает наша диада, как замечает Ревелли, — это сфера, или круг, где, если рисовать его слева направо, любая точка правее следующей и левее предыдущей, и наоборот, если рисовать его справа налево. Разница между первой и второй метафорами состоит в том, что первая представляет политический универсум разделенным надвое, или дуалистическим, вторая же допускает плюралистический образ, состоящий из множества сегментов, расположенных на одной линии. Ревелли справедливо замечает, что предмет, занимающий все политическое пространство, отменил бы всяческое разграничение между правым и левым, что действительно происходит при тоталитарном режиме, внутри которого дальнейшее разделение невозможно. В лучшем случае он может быть сочтен правым или левым в сопоставлении с другим тоталитарным режимом.
Но если мы допускаем, что правое и левое — два пространственных понятия, обозначающих взаимное расположение двух лагерей, что они не являются онтологическими понятиями и не имеют определенного, конкретного и постоянного во времени содержания, стоит ли делать отсюда вывод, что это пустые коробки, которые можно наполнить чем угодно?
Изучая предшествующие интерпретации, мы не можем не констатировать, что, несмотря на многообразие отправных точек и используемых методов, все их связывает некоторая родственность, до такой степени, что зачастую они кажутся вариациями на одну и ту же тему. Тема, которая всплывает во всех вариациях, — это противопоставление горизонтального, или эгалитарного, взгляда на общество и вертикального, или антиэгалитарного. Из двух терминов наиболее постоянную ценность сохраняет первый. Можно было бы даже сказать, что пара вращается вокруг понятия «левого», а вариации возникают, главным образом, за счет того, что принципу равенства противопоставляются различные возможные принципы, такие, как принцип неравенства, иерархический или авторитарный принцип. Тот же самый Ревелли, предложив пять критериев разграничения между правыми и левыми — время (прогрессизм-консерватизм), пространство (равенство-неравенство), субъекты (самоуправление-управление извне), функция (низшие классы — высшие классы), модель познания (рационализм-иррационализм) — и отметив, что конвергенция этих элементов проявляется лишь изредка, в конце концов наделил решающим значением критерий равенства-неравенства как в некотором смысле «основу для остальных», которые, соответственно, оказываются «основанными на нем». Как основной принцип, равенство — единственный критерий, который сопротивляется временной эрозии, разложению, которому подверглись другие критерии, вплоть до того, что, как неоднократно говорилось, само разграничение правого и левого оказалось под вопросом. Лишь таким образом возможно «новое основание» этой бинарной оппозиции, иными словами — «реорганизация» производных критериев «исходя из фиксированной ценности равенства» или из «ключевой функции равенства как ценности».