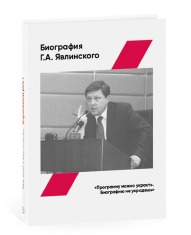Некоторое время назад вы выступали в цикле «Публичные лекции «Полит.ру»» с рассказом о процессах, которые идут в контексте общей тенденции распада империй. С тех пор произошли некоторые события, которые могли уточнить представление об этих процессах.
Про некоторые страны я просто мало что знаю. Например, о том, что с того времени произошло в Узбекистане. Я более или менее следил, старался следить за Киргизией, но очень мало материала, надо ехать, но меня туда никто не посылает, а сами киргизы, когда была такая идея, сказали честно: «Не надо».
Там сейчас достаточно сложная ситуация: обострившиеся противоречия между президентом и премьером, проблема криминалитета и т.д.
Я считаю, что есть цикл жизни режима безальтернативной власти. Из этого не следует, что падение режима обязательно означает переход к демократии. Это – переход к демократии лишь тогда, когда в период существования этого режима общество созрело для демократии. За падением режима может следовать переход к демократии, а может – период нестабильности и новая диктатура. Киргизы находятся именно в этой стадии нестабильности. Акаевский режим исчерпал себя, но может возникнуть новый, предположим, куловский режим. Хотя я не берусь говорить, может быть, будут другие варианты. Но ясно, что в Киргизии эта ситуация свободы нестабильна, общество быстро переходит в анархию, здесь цикл жизни режима оказался короче, чем процесс созревания общества для демократии.
Это при том, что при Акаеве какие-то гражданские структуры существовали, что-то как будто начинало формироваться.
Формировалось и формируется, но там наряду с действительно гражданским обществом в европейском смысле есть другое явление – догражданское, догосударственное общество, кланово-региональное, которое в определенных ситуациях, в определенных комбинациях с другими факторами может способствовать демократизации, потому что авторитарная власть наталкивается на какое-то реальное сопротивление, некие очень глубокие структуры. Но в ситуации неустойчивой демократии это очень быстро переходит в борьбу всех против всех, в анархию.
За последнее время Белоруссия, мне кажется, сделала довольно большие шаги вперед.
Возникло ощущение того, что степень контроля власти над обществом уменьшилась, что ситуация дестабилизировалась.
Скорее всего, да. На какой-то момент как будто совершенно бессильная оппозиция смогла достичь объединения, смогла выдвинуть какую-то нормальную фигуру – Милинкевича. Они все-таки выводят на площадь достаточно народа. Сколько Милинкевич получил, одному Богу известно, но процентов двадцать, наверное, было, что тоже не так мало.
Белоруссия, конечно, – страна, к которой приковано внимание Запада, и действуют всякие подрывные силы. Сейчас это, похоже, уже начинает способствовать процессу, раньше оно мешало, ослабляло оппозицию. Во-первых, на ней всегда было клеймо агентов. И был второй момент, который я прослеживал просто на своих знакомых: вот, порвал человек с режимом, ушел в оппозицию, а его тут же приглашают сначала на какой-то семинар или на лекцию в Германию. Всё. Дальше он начинает ездить по Европе, говорить о том, какой кошмарный лукашенковский режим, – то есть находит себе какое-то дело. Если бы он сидел на месте, он бы начал думать о том, как свергнуть Лукашенко. А тут он при деле, есть какие-то деньги. Но капля камень точит, и сейчас что-то начинается.
Достаточно интересно, что Милинкевич приехал в Москву, – это, допустим, для среднеазиатской оппозиции нормально, но для белорусской последнего времени не было характерно.
Для среднеазиатской оппозиции это тоже не очень нормально. Казахстанская, например, оппозиция о Москве мало думает.
Мне кажется, что стремление ездить в Москву, действовать через Москву, как и стремление действовать прежде всего через Запад, говорит о неразвитости, не самодостаточности общества. То есть ездить надо всюду, но судьба страны в конечном счёте решается внутри неё, самое важное – как ты действуешь внутри.
Киргизская оппозиция ездила в Москву.
Киргизская ездила всюду, куда угодно. У меня впечатление, что белорусы тоже перестанут ездить, то есть ездить будут, но это перестанет быть настолько важно – связываться с иллюзорными надежами. И это тоже свидетельство взросления белорусского общества.
У белорусской оппозиции было два очень непримиримых лагеря: национал-демократический и просто демократический. И многие в Белоруссии были очень долго убеждены, что Ельцин – это и есть то, о чем белорусы должны мечтать, Гайдар – это вообще символ всего хорошего. Это русскоязычные люди, воспитанные в русской культуре и все время думавшие о Москве и надеявшиеся на нее. Это продолжалось очень долго. И эмиссары ездили, и бесконечно их сводили с кем-то. Но у меня такое впечатление, что эта эпоха уже кончается. Они будут больше ориентироваться на себя и на Запад.
Это связано с тем, что белорусская идентичность все-таки состоялась?
Прежде всего это связано с тем, что ничего они здесь не получили и получить не могли. Понимаете, первый год на что-то надеешься, второй год надеешься – на десятый год уже надеяться не на что. Они оживлялись, когда Путин говорил про «мухи отдельно, котлеты отдельно» и показывал, что не любит Лукашенко, они оживлялись на каждый признак недовольства Лукашенко в России. Но сейчас, по-моему, они понимают, что на нас рассчитывать нельзя, и это – признак взросления.
Громадным успехом белорусов является и то, что в оппозиции у них участвуют коммунисты, и участвуют по-хорошему, нормально. Вообще, их лидер, Калякин (я его видел пару раз), на меня производит очень хорошее впечатление. Как и некоторые другие представители этой партии.
То есть белорусская оппозиция сейчас, чего не было вначале, покрывает практически весь политический спектр – от националистов до коммунистов, в ней возникло понимание, что главная проблема – это скинуть Лукашенко, и это понимание создает основы для будущего, уже в постлукашенковской ситуации, нормального климата. Это как антифашистское движение, когда и монархисты, и коммунисты в подполье. В рамках этой оппозиции вырастают нормальные, демократические отношения, которые в будущем повлияют на ситуацию в стране.
Подобный же прецедент мы имеем в Казахстане.
Да, прецедент этот мы имеем и в Казахстане.
В начале 90-х годов все политические силы в Белоруссии просто ненавидели друг друга. И проблема языка просто их съела, потому что уперлись – и все. И до сих пор они ее все еще продолжают муссировать и обсуждать эту проблему, но постепенно возникает новое понимание, которое выразил, по-моему, один коммунист, Щукин: «Вот, мы свергнем Лукашенко и тогда уже будем бороться с Народным фронтом». Возникает понимание общей задачи и общих ценностей.
Уже после выборов Лукашенко оказался в каком-то смысле между двух огней. Россия грозит увеличить в три раза цены на газ и требует поделиться прибылью от нефтепереработки, в то же время Запад не оставляет давления. Какие могут быть реальные варианты?
Не знаю. Он загнал себя в угол, у него нет уже никакой свободы маневра. Четыре-пять лет назад он мог спокойно сделать крен на Запад. Сейчас у него такой возможности уже нет.
Возможна ли с его стороны попытка вот в такой отчаянной ситуации, вопреки явному нежеланию, все-таки пойти на какие-то странные формы интеграции с Россией?
Может быть. Вы понимаете, он довольно наивный человек, он довольно долго не понимал, что интеграция с Россией – это потеря власти. Это мы так думаем, что они такие все хитрые и умные, но очень часто они простые и наивные люди. Логика действий Лукашенко мне очень напоминает логику действий раннего Каддафи: он предлагал союз со всеми, единое арабское государство. Тунису, Египту он это предлагал – кому угодно. Он был просто глубоко внутренне убежден, что он такой умный, хороший и что в этом союзе он и будет главным. Если единое государство, то кто этого старика тунисца Бургибу будет воспринимать, а я вот такой… Это совершенно детское поведение и детские расчёты.
Лукашенко, очевидно, до конца в голову не приходило, что именно будет означать союз. Сейчас он, очевидно, это понял. Значит, если он почувствует, что вопрос в том, чтобы выжить просто физически, не попасть под суд и в тюрьму, вот ради этого он может пойти на какую-то интеграцию, но пока есть надежда обойтись без этого, он на нее не пойдет.
Насколько далеко, на ваш взгляд, Россия может пойти в давлении?
Не знаю, не могу сказать. Конечно, понятно, что для Путина Лукашенко – больной вопрос. Просто непонятно, что с ним делать. Сдавать Западу нельзя, помочь устроить переворот – очень рискованно, потому что практически несомненно, что любой, кто бы ни пришёл на смену Лукашенко, будет ориентироваться на Запад. Заставить его присоединиться очень сложно. Да и политически опасно. Вот я и думаю, что они голову ломают.
А вот на Украине все идет нормально.
Как – нормально? На Украине возник вопрос о том, сможет ли сформироваться более или менее стабильная политическая власть. На Украине имеется некоторое усиление экономических проблем.
Проблем на Украине может быть уйма, всех сортов и всех видов. Тем не менее ничего особенно катастрофического там не будет. Это их проблемы, какую коалицию создавать, но это нормальные проблемы нормального демократического режима, хотя и недостаточно устоявшегося.
Реальная проблема, которая у них есть, заключается в том, что вообще «Партию регионов» или, скажем, восток страны все равно надо допускать до власти. Нельзя громадную часть страны изолировать. А вот какая тактика или стратегия этого – другой вопрос: может быть, сейчас несколько постов дать «Партии регионов», может быть, в какой-то момент возникнет правительство партий, базирующихся прежде всего на востоке. Революция осложнила эту проблему, потому что если именно сейчас дать посты представителям «Партии регионов» – у кого-то возникнет вопрос «Для чего мы боролись? Для чего на Майдан выходили?».
Революция, сыграв колоссальную роль локомотива развития украинской демократии, в некоторых аспектах задержала его, потому что сейчас «Партию регионов», восток, интегрировать довольно сложно. Но, тем не менее, мне кажется, это совершенно решаемая проблема, более того, она сама собой решится.
Предположим, вне зависимости от состава коалиции Украина продолжит евро-атлантический вектор движения. Не возникнет ли искушения у части российской элиты, которая осознает, что контроль над целой страной установить не удается, делать ставку на раскол Украины?
Нет у нас сил для этой политики. Во-первых, я не думаю, что раскол по-настоящему возможен. Есть единственный регион, который, очевидно, хотел бы быть российским, – это Крым. В Луганске и в Донецке могут периодически или от большой злости, или в чисто демагогическом плане выдвигаться какие-то такие лозунги. Но есть эти олигархические донецкие и днепропетровские группировки, они уже завязаны в этой стране, они ведут там, внутри нее, борьбу. Представить себе каких-то януковичей или ринатов ахметовых, которые захотят оказаться внутри России, невозможно.
Нам, конечно, мало ли чего в голову взбредет, но ведь мы – и это тоже особенность нашей политики и нашей постсоветской культуры – сначала устраиваем истерику, а потом очень легко и быстро отступаем. План, предположим, присоединения восточных частей Украины требует серьезной, готовой к жертвам, упорной политики. Ни с той стороны, ни с нашей такого серьезного движения быть не может. Вокруг Севастополя и Крыма тоже периодически какие-то пляски возникают, но и то мы никогда не доходили до реальной политики, направленной на их присоединение.
Сейчас мы наблюдаем сильное обострение ситуации вокруг Приднестровья в связи с известным таможенным конфликтом. Пока не начался этот конфликт, было ощущение постепенно идущей смены элит в Приднестровье, постепенного перехода к склонности договариваться с Кишиневом. Как может повлиять нынешняя ситуация?
Я достаточно плохо представляю себе ситуацию в Приднестровье, но мне кажется, что оно, в конечном счете, обречено на включение в Молдову. И не в каком-то далеком времени, а в обозримые сроки.
За счет чего? То есть что должно подталкивать в эту сторону? Есть то, что отталкивает, – ощущение, что, в отличие от Молдовы, Приднестровье обладает реальным экономическим потенциалом.
Их зажали. Если даже представить себе, что абхазы могут надеяться на какое-то признание когда-то, то в отношении Приднестровья начисто нет такой возможности. На них будут давить.
А страхи перед объединением были во многом порождены мифологией (присоединение к Румынии) и вспышками насилия в начале 90-х гг. Эти вспышки были достаточно сильными, но оснований для них, в общем-то, не было. Там была какая-то странная, не совсем для меня понятная ситуация.
Причем вспышки насилия были не только в Приднестровье, но и в Кишиневе.
Там было какое-то несоответствие, для меня непонятное, между этим насилием и довольно умеренной ситуацией. Скажем, идея присоединения к Румынии, чего больше всего боялись. Очень скоро выяснилось, что и Румынии это не надо, и Молдова этого не хочет. Значит, страхи особых оснований под собой не имели.
Была идея, что всех русских там задавят. Но явно нет там такого агрессивного молдавского национализма. Получается несоответствие. Сейчас у власти коммунисты, поддержанные нацменьшинствами и русскими. Кстати, за предыдущего президента – Лучинского – тоже голосовали нацменьшинства. Нет никакой политики давления на русских, а борьба была – даже кровавая. Просто я недостаточно понимаю, откуда возник тогда такой накал страстей, когда почвы для этого нет – ни реальной угрозы присоединения к Румынии, ни какого-то страшного молдавского национализма.
Вот, есть проблема у армян и азербайджанцев: люди борются за свой народ, за свою землю. Но там не было этой ситуации.
То есть нечто иррациональное?
Да. И сейчас тоже, кроме приднестровской верхушки, у которой страхи, конечно, рациональные. Угнетения русских в Молдове нет и не будет. Можно выторговать себе все, что угодно. Абхазы – понятно, это маленький народ, он не хочет погибнуть. Он знает, что в рамках единой Грузии он бы погиб, не потому что его будут как-то преследовать, а потому что он не сможет держать инфраструктуру для поддержания восьмидесятитысячной нации. Он просто растворится. У приднестровцев нет нации, нет сознания, что они во что бы то ни стало должны уцелеть в этом мире.
У некоторых из них, судя по всему, есть самосознание островка России.
Да, но это уже с каждым годом уходит в прошлое.
Для молдаван, по-моему, очень хорошо, что коммунисты оказались у власти. Левее коммунистов же никого нет. Значит, протестный потенциал уже исчерпан. Самое страшное – позади, и оно оказалось не таким уж страшным. Ведь Воронин проделал очень большую эволюцию.
Победа коммунистов утвердила сами принципы демократии, общие правила для всех. На последних выборах Воронин сделал все возможное, чтобы выборы были честными. Единственное, чего он боялся, – что оппозиция начнет «оранжевую» революцию, подловив на фальсификациях. Поэтому они пригласили массу наблюдателей, чтобы избежать подобных обвинений.
Эволюция, проделанная коммунистами, закрепила все основные завоевания периода независимости: демократию, капитализм, европейскую ориентацию. С другой стороны, совершенно ясно, что пребывание у власти коммунистов снизило приднестровские страхи.
Воронин проделал эволюцию и в национальном вопросе. Он начинал с крайнего антирумынизма и пророссийскости, с каких-то вещей, которые безумно раздражали интеллигенцию, например, там был издан молдавско-румынский словарь. Сейчас этого нет.
С другой стороны, и правые там уже не говорят о присоединении к Румынии как о ближайшей цели. Они говорят – вот вступим в Евросоюз, там границы вообще не будут иметь такого значения.
Удастся ли Молдове войти в Евросоюз, при том, что там сейчас довольно осторожно относятся к расширению?
Я помню, что когда я выступал у вас, даже было вынесено в заголовок: «Судьба Украины решается в Турции». Я могу повторить это. Я думаю, что процесс расширения Евросоюза все-таки неизбежен. Будут тянуть, как можно, выдумывать все, что угодно, чтобы не принимать, но где-то это уже естественный процесс. Примут, конечно, со временем. Тем более что коммунисты, и это очень интересная ситуация, делают все возможное, чтобы соответствовать нормам Евросоюза. Приезжают какие-то, предположим, голландцы и говорят: «В пенитенциарной системе должны быть такие-то изменения» – так и делают.
Если я вас правильно понимаю, в Молдове и в меньшей степени на Украине, в общем-то, создаются институты, политическая культура европейского типа?
Да. Причем в Молдове в весьма своеобразной форме коммунистического правления.
А что в этом смысле можно сказать о Грузии?
В Грузии, конечно, все значительно сложнее. Субъективно Грузия – во много раз более западная страна, чем Украина или Молдова. Большинство украинцев, согласно опросам, не хотят в НАТО. А грузины-то хотят. То есть в обществе имеется практически полный консенсус вокруг западных ценностей (кроме каких-то небольших организаций) и прозападной ориентации, а психология общества – не западная.
Возьмем даже саму революцию. Меня больше всего напугала тогда одна вещь – 90% голосов за Саакашвили. Причем самое ужасное заключается в том, что результаты – честные. Общество, которое может в свое время голосовать за Гамсахурдия восьмьюдесятью с чем-то процентами, потом за Шеварднадзе, которое вот так может метаться, быстро разочаровываться, – очень далеко от устойчивой демократии. Саакашвили, насколько можно судить по разным его выступлениям, в общем и целом понимает одну важнейшую вещь (во всяком случае, на чисто интеллектуальном уровне – не знаю, как он переживает это): надо приучить себя к мысли, что нужно будет уступить власть. Это великая вещь, что он это понимает, он это несколько раз говорил. Но пока в Грузии не возникнет серьезной оппозиции, пока не произойдет ротации власти, которая сохранит консенсус, общее направление, говорить об устойчивой демократии рано. Грузины пока сделали к устойчивой демократии на несколько шагов вперед меньше, чем украинцы.
Между прочим, похоже, у Азербайджана, где тоже имеется достаточно прочный консенсус вокруг западных ценностей, возможностей даже меньше, чем у Грузии. Грузины себя хотя бы заставляют…
В Азербайджане все-таки есть, наверное, и силы, которые смотрят на Восток?
Ничтожно мало. Вы знаете, поразительная вещь: специфическая особенность этих стран – в них есть прозападный консенсус, но культура отторгает западные ценности. Алиев смотрит на Запад, а оппозиция еще больше смотрит. А кто там, кроме Алиева и оппозиции? Может быть, есть какие-то ваххабиты, но их очень немного. Более того, в Азербайджане есть исламская партия, но и она требует демократии. Вроде бы всё просто идеально. Но психология настолько противоречит этому, что, например, честные выборы в Азербайджане я пока просто себе не представляю.
Тогда как это может двигаться? Насколько долго?
Долго, мучительно и трудно. Хотя консенсус есть, дорога есть.
А не будет ли меняться этот консенсус по ходу движения?
Да, пока не меняется. Он очень прочный – с 1991 года.
И у Грузии, и у Азербайджана есть фактор территориальных болей. Как это влияет? Не служит ли некоторой консервации?
Служит, конечно, и очень. Вы знаете, у меня вообще такое впечатление, что очень плохо, что грузины так зациклились на этих территориях. Плохо с точки зрения развития грузинского общества. Эта проблема труднорешаема, но всё время отвлекает от внутренних проблем.
Вы думаете, что ни в Осетии, ни в Абхазии не решаема?
В Осетии она с трудом решаема – из-за нас, а в Абхазии ее нельзя решить нормальным путем, поскольку абхазы зажаты в угол. Абхазы в демократическом грузинском обществе обречены на гибель.
Почему? Это ведь все-таки совсем другой народ, что их заставит раствориться?
Вы знаете, у абхазов уже было громадное количество смешанных браков. Абхазы уже исчезали. В условиях демократии безусловным является возвращение грузинских беженцев. И абхазы снова будут 18 процентами населения Абхазии. Больше двадцати процентов мест в нормальной демократической ситуации они в своём парламенте иметь не смогут.
Грузины – прекрасный, замечательный народ, но все-таки не тот народ, который, как финны, будут культивировать шведский язык – до сих пор делать надписи на двух языках по всей Финляндии. Не будет этого. Не выживет восьмидесятитысячный народ в этой ситуации.
Может быть, это еще память о сталинских временах уничтожения абхазского языка, элит?
Все это тоже есть, но все-таки он объективно не выживет. Поэтому абхазы и пошли на этническую чистку – у них просто не было выхода. Хотя это преступление, но надо понять, в чем его причины. Когда в Абхазии грузин 50%, для 18% абхазов демократия – это смерть. Насколько я понимаю, есть два варианта решения этой проблемы. А может быть, даже и один. Первый вариант такой: вернуть беженцев в Гальский район, может быть, еще что-то прихватить, а остальной Абхазии просто предоставить независимость.
То есть независимость, но не для всей нынешней Абхазии.
Да. И в независимую Абхазию грузины уже не возвращаются. Там дальше может быть масса проблем (компенсации и т.д.), но это уже технические проблемы. Насколько я знаю, это решение на уровне грузинской элиты для себя обговаривается. Но оно никогда не произносилось вслух. Они боятся такое произнести. Грузинская масса не поймет.
А на уровне абхазской элиты?
Ей это легче понять.
Второе решение сложнее. Выдумывается какая-то конфедерация, автономия. Беженцы нормально возвращаются на всю территорию Абхазии, и устанавливается с международными гарантиями система квот. В парламенте места распределяются по этническим «куриям», президент – обязательно абхаз и т.д. Что-то вроде Ливана, но с международными гарантиями.
Это хлопотно, трудно, первый вариант мне кажется, в конечном счете, менее болезненным. Но второе тоже, насколько я представляю себе, не проговаривается. Потому что и этого грузины не поймут. А без понимания того, что абхазы борются за выживание, не может быть никакого нормального решения. Вот так все и будет.
И долго будет длиться этот тупик?
Знаете, у меня надежда такая, что, быть может, проблема Приднестровья решится – и дальше международное сообщество примется и за другие проблемы. И тогда уже решение будет навязано.
Мне кажется, что планы решения подобных конфликтов не выработаются в переговорах враждующих сторон. Их надо навязывать, чтобы они выдвигались кем-то извне, а дальше пусть обсуждаются, пусть там все решается.
Вот, в своё время был выдвинут единственный, по-моему, вразумительный план решения карабахской проблемы – это был план Гобла. Это американский эксперт, который еще вначале, в 90-е годы, предложил обмен территориями. Шуша, где было большинство азербайджанцев, остается в Азербайджане. Весь остальной Карабах отдается армянам, армянам отдается Лачинский коридор между Карабахом и Арменией, а азербайджанцы получают полоску земли, соединяющую Нахичевань с остальной массой Азербайджана, – это как раз земли, на которых и было много азербайджанцев.
Прошло чуть ли не двенадцать лет, и вот до сих пор этот план присутствует в сознании, о нём говорят. Потому что единственный раз людям сказали что-то резонное, о чем можно говорить.
Сейчас в связи с Карабахом идет борьба поэтапного и пакетного способов урегулирования, поддерживаемого Азербайджаном и Арменией соответственно…
Мне кажется, что поэтапно ничего не получается. В общем, и Азербайджан, и Армения очень заинтересованы в том, чтобы ничего не происходило. Азербайджанская власть боится войны, потому что война – это дестабилизация внутри, это угроза власти. Реально бедные беженцы ютятся, но над элитами ничего не каплет. Армянам – и говорить нечего, они получили всё, что хотели, и им никаких перемен не надо.
Изнутри ничего не возникнет. Скажем, план Гобла связан с тем, что большая часть Карабаха отдается. Это ни один азербайджанский политик не решится у себя предложить. А как обсуждение американского предложения – это возможно.
Есть ощущение резкого усиления давления в сторону умиротворения в более или менее обозримые сроки, чуть ли не в 2006 году. Были даже заявления Кондолизы Райс о возможности подобного.
Мне кажется, что это попытка выдать желаемое за действительное. О каких-то прорывах говорится уже второй десяток лет, но ничего нет. Это как раз те проблемы, которые очень сложны даже в моральном отношении: кому по справедливости что-то принадлежит. Их без посредника – причем такого посредника, который сам выдвигал бы какой-то план, принципы урегулирования и продвигал их, – не решишь. Но и план должен быть такой, чтобы обе стороны понимали, что он, во всяком случае, не совсем несправедлив.
Я, например, говорил насчет плана малой Абхазии и с грузинами, и с абхазами. Он не откидывается. Помню первую реакцию абхазов: весь этот район – да ты что, никогда? То есть уже появляется основание для разговора. Мне говорят: «Ты не знаешь, какие там земли, – они очень ценны для нас». Но это уже нормальный разговор, нормальная «торговля»!
С новой газовой политикой России наши интеграционные проекты на пространстве СНГ умерли?
Не знаю. Совсем уж они умереть не могут.
Просто есть ощущение относительной системности этой политики. Что-то было и раньше: упомянутые «мухи и котлеты», давние дискуссии с Украиной, но сейчас возникло ощущение какой-то новой стилистики. Стоит ли за этим новое содержание?
Действительно, год назад, пожалуй, можно было сказать, что вроде бы они перестали думать об интеграции и стали больше думать о деньгах, но мне кажется, что совсем перестать думать об интеграции они не могут. Скажем, совсем плюнуть на режим Лукашенко нельзя. Один год будет колебание в одну сторону, следующий – в другую. По-моему, тут есть внутренние противоречия в самих наших желаниях, в самих мотивах, которые никуда не денутся.
Я не очень уверен, что наши власти сами знают, чего хотят. Когда существует много разных мотивов сразу, ответить на вопрос, чего ты хочешь, невозможно.
Вы сказали, что система в Казахстане находится в глубоком кризисе. А дальше что? Там ведь тоже существуют некоторые элементы относительного консенсуса относительно евро-атлантического пути?
Нет, евро-атлантического пути там нет, Назарбаев – это не евро-атлантический путь.
В Казахстане очень сильная и серьезная оппозиция, и то, что она почти ничего не получает на выборах, просто не имеет никакого отношения к реальности. Оппозиция там смогла сделать то, о чем Березовский и Ходорковский что-то такое непонятное говорили. В Казахстане это реально сделано: олигархи и коммунисты сидят за одним столом. Там группа «Поколение», объединяющая пенсионеров, коммунист Абдильдин, олигархи Жакиянов и Болат Абилов – вместе.
Еще есть один очень хороший момент в Казахстане: это наличие двух зятьев и довольно сильной клановой борьбы в семействе. Это делает возможным вариант того, что кто-то из этих кланов наверняка в трудный переходный момент захочет законтачить с либеральной оппозицией, и периодически то один, то другой клан делает какие-то такие движения. То есть в этой ситуации сам переход к демократической системе может оказаться относительно безболезненным. Дарига Назарбаева делала вообще удивительные вещи.
Не допустила ужесточения закона о неправительственных организациях?
Да. Дарига, очевидно, – женщина очень неглупая и понимает, что та проблема, которую она решает (сохранить позиции семьи при конце назарбаевского правления и при очень вероятном переходе к новой системе, основанной на реальных выборах власти) – это проблема квадратуры круга. И, как это ни странно, она ее в какой-то мере решает. Она пытается сейчас изобразить нечто фантастическое: дочь, которая как бы находится даже в оппозиции к своему отцу. Но вообще-то такое бывает. Таким образом, есть хорошая возможность относительно безболезненного перехода. Это хорошие стороны в Казахстане.
Плохие стороны заключаются в том, что, Назарбаев уходить никак не собирается, и начались вот эти странные убийства. Казахи, насколько я знаю, сами не понимают, кто, что и почему. То, что это идет сверху, – ясно, но с какого верха? Там верх сложный, много башен, – непонятно. И это говорит о том, что какие-то люди готовы на все, если на ком-то из семьи лежит эта кровь, это может быть дестабилизирующим фактором.
И в данном случае не очень понятно – зачем.
Формально все очень понятно. Первый из двух известных жертв, Нуркадилов, был реально опасным человеком. Нуркадилов – это старый друг, старый соратник, у них сложные отношения, он обращался к Назарбаеву знаете как? «Нурсултан, посмотри, что ты сделал со своими детьми, ведь у тебя прекрасные дети!». Там были угрозы разоблачения Назарбаева. Но я помню разговоры с казахами, они говорили, что это слишком, что не может такого быть: это не в стилистике Назарбаева, который никогда не отличался жестокостью. Это очень трудно предположить, поэтому это слишком.
С Сарсенбаевым тоже все очень странно. Там вроде бы есть какие-то выходы на исполнителей, но не совсем понятно, для чего всё это.
Я последние месяцы не знаю, что там происходит. Но все равно у меня остается ощущение, что Казахстан – относительно готовая страна для перехода к демократии.
Причем, конечно, в Казахстане было бы не как в Киргизии, а во много раз лучше. Это более развитая страна.
То есть Казахстан может стать наряду с Турцией (при всех оговорках) некоторой витриной построения относительно либерального общества в мусульманской стране.
И Азербайджан может. В Азербайджане только одно: я не могу себе представить, чтобы они не фальсифицировали выборы. Вот я председатель комиссии, а выбирают моего земляка, так как я могу не помочь? Но если это всё-таки преодолеть, Азербайджан может стать ещё одной мусульманской демократической страной.
А ведь ясно, что демократия в мусульманских странах – особенно важна и ценна.
Есть у нас, в СНГ, еще одно интересное, очень положительное явление – это Исламская партия Таджикистана. Насколько я понимаю, это партия, реально готовая к нормальной демократической жизни.
Насколько вообще стабильная ситуация в самом Таджикистане?
У меня впечатление, что они настолько устали от войны и настолько рады, что наконец есть какой-то порядок, что хорошо относятся к рахмоновскому авторитаризму, который довольно мягкий.
Мягкий, но там постепенно все-таки идет сворачивание возможностей участия оппозиции…
Да, идет. Это нормально. Но, с одной стороны, есть готовность подчиниться этому, ибо все боятся возвращения к гражданской войне, а с другой стороны, Рахмонов все-таки делает это довольно медленно и аккуратно. Это следствие гражданской войны и того, что вышли из неё всё-таки не тотальной победой одной из сторон, а примирением.
Узбекистан и Туркмения?
Туркмения – полная загадка, вообще совершенно что-то таинственное и непонятное. Узбекистан – страшная, конечно, страна, и мне кажется, что там ничего хорошего не будет.
В каком смысле?
Мне кажется, что будут новые Андижаны, и на очередном Андижане режим рухнет.
А дальше?
А дальше может быть все, что угодно. В таких режимах, как узбекский, никто, и в первую очередь сама власть, не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в обществе.
Отсутствие нормальных информационных потоков?
Да. Что в этом обществе происходит, какие процессы, кто выйдет наружу? Никто не знает. А наружу могут выйти очень странные люди. Бог его знает, в каком другом Андижане какие возникают странные структуры со странными идеологиями. В общем, может быть все, что угодно, но кровь будет, это, по-моему, абсолютно неизбежно.
А в Туркмении? Понятно, что Ниязов не вечен.
Конечно, кровь будет и там – это ясно. Такие режимы бескровно не уходят. Будет кровь, абсолютная непредсказуемость – еще в Узбекистане мы хоть что-то немножко представляем: «Акрамия», «Хизб-ут-Тахрир»… А в Туркмении просто не знаем ничего. Что это за общество, что там реально люди думают и чувствуют, одному Господу известно.
Будущее СНГ через тридцать лет?
Никакого. Через тридцать лет ничего не будет.
Будет скорее роспуск организации или отмирание потихонечку?
Мне кажется, она будет потихонечку отмирать, странно представить, что кто-то решится собраться и ее распустить.
А другие структуры на постсоветском пространстве – ЕЭП, ШОС и т.д.?
Некоторые – тоже ничего. ШОС – это куда интереснее, потому что это попытка все-таки выйти за постсоветские рамки. Все постсоветские режимы всегда видели в России «большого брата», который не даст в обиду. Но он дает в обиду. И появилось какое-то ощущение, что он не такой уже и большой брат. Да России и самой хотелось бы иметь такого большого брата. То есть Китай – это, конечно, страшная перспектива, это противоречит очень глубоким нашим культурным основаниям, но, тем не менее, безусловно, такая мысль и такое чувство возникают.
Это – некая потенция большого евразийского объединения схожих, однотипных режимов, где надзирателем уже не Россия, а Китай. Но есть такая идея, такие мысли. Насколько они реальны, насколько соответствуют китайским мыслям и чувствам, одному Богу известно.
То есть российская элита может при каких-то условиях пойти на признание Китая старшим братом?
Не знаю, но то, что в определенных кругах есть такая готовность, – это несомненно. Периодически что-то в этом духе выскакивает.
Все ли страны этого региона могут пойти на такую структуру – с учетом уже проговоренных перспектив Казахстана?
Это все зависит от внутреннего положения у них. Если в Казахстане произойдет «оранжевая» революция, то нет. А о Киргизии вообще говорить нечего, у нее нет никакого выбора – она зажата.
Тут есть какие-то ходы, планы, комбинации, а есть внутренние процессы, которые эти комбинации и планы разрушают. Вот, произойдет какая-то революция – и все. А кто знает, что в Китае будет через десять лет? Никто не знает. Ведь рано или поздно должен же китайский режим рухнуть, это ясно. А когда – через двадцать или через десять? Успеет ли за это время что-то возникнуть или не успеет? Слишком много тут неясного.
Влияние процессов СНГ на внутренние российские процессы?
Пока только одно. Усиление нервозности – общей и в правящих кругах. Пока так. Но чтобы Украина стала примером – это может быть только лет через пятнадцать. Слишком много глубоких барьеров. Сама идея, что Украина для русских может стать примером – это настолько многому противоречит! Это очень трудно. Очень многое нужно, чтобы это произошло.
Беседовал Борис Долгин
***
Дмитрий Фурман — — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. Другие его материалы читайте здесь, в рубрике Умный разговор.